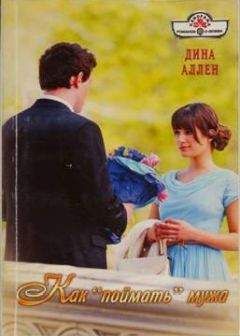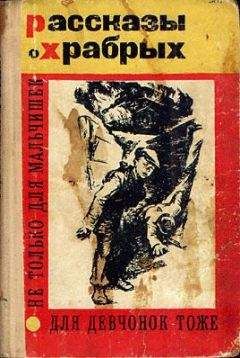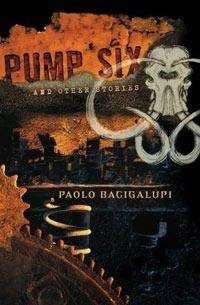Чак Паланик - Дневник
И Мисти говорит Энджелу:
– Я не знаю.
Строители старой закваски, сообщает она ему, они ни за что бы не начали строить новый дом в понедельник. Только в субботу. После того как заложен фундамент, они обязательно бросают пригоршню зерен ржи. Если через три дня зерна не прорастут, они строят дом. Они прячут старую Библию под пол или замуровывают ее в стене. Они обязательно оставят одну из стен неокрашенной, вплоть до прибытия хозяев. Таким образом, дьявол не будет знать, что дом завершен, пока там уже не поселятся люди.
Из бокового отделения своей сумки с фотопринадлежностями Энджел достает нечто плоское и серебряное, размером с книжку карманного формата. Это нечто квадратное и блестящее, фляжка, изогнутая так, что твое отражение в ее вогнутой стороне – высокое и худое. Твое отражение в ее выпуклой стороне – приземистое и толстое. Он протягивает ее Мисти – металл гладкий и массивный, с круглым колпачком на одном конце. Центр тяжести смещается, когда что-то с плеском перекатывается внутри. Его сумка с фотопринадлежностями – из колючей серой ткани, вся усеянная «молниями».
На высокой худой стороне фляжки выгравировано: «Энджелу – Te Amo».[12]
Мисти говорит:
– Ну? А вы-то почему здесь?
Когда она берет фляжку, их пальцы соприкасаются. Физический контакт. Флирт.
Для протокола: погода сегодня несколько подозрительна, с шансами на измену.
И Энджел говорит:
– Это джин.
Колпачок отвинчивается и отводится в сторону на крохотном кронштейне, которым крепится к фляжке. То, что внутри, пахнет весельем, и Энджел говорит:
– Пейте, – и ее худое, высокое отражение в отполированной поверхности – сплошь в отпечатках его пальцев. Сквозь дыру в стене видны ноги домовладелицы в замшевых полуботинках типа мокасин. Энджел ставит свою сумку так, чтобы закрыть дыру.
Где-то вдали от всего этого слышно, как волны океана шипят и разбиваются. Шипят и разбиваются.
Графология утверждает, что в почерке любого человека проявляются три грани его личности. Все, что выпадает за нижнюю границу слова, к примеру, хвостики строчных «у» и «ф», намекает на твое подсознание. На то, что Фрейд назвал бы твоим «ид». Это – твоя самая животная сторона. Если хвостики отклоняются вправо – это значит, что ты тянешься к будущему и миру вовне себя. Если влево, то, значит, ты застрял в прошлом и замкнулся в себя.
То, как ты пишешь, как ходишь по улице – вся твоя жизнь проявляется в каждом физическом действии. Как ты держишь плечи, говорит Энджел. Все это – искусство. Как ведут себя твои руки… ты непрерывно рассказываешь историю своей жизни.
Внутри во фляжке действительно джин – того доброго сорта, холод и тонкость которого ты можешь прочувствовать всей длиной своего пищевода.
Энджел говорит: то, как выглядят твои высокие буквы – все, что возносится над уровнем нормальных строчных «е» и «х», – намекает на твою возвышенную духовную сущность. На твое суперэго. То, как ты пишешь свои «б» или ставишь галочки над «й», – показывает, кем ты стремишься стать.
Все, что находится посередке, большинство твоих строчных букв – в них отразилось твое эго. Будь они скученными и колючими или размашистыми, с завиточками – в них виден обычный, будничный ты.
Мисти протягивает фляжку Энджелу, и тот делает глоток.
И говорит:
– Вы что-нибудь чувствуете?
Питеровы слова гласят:
– …вашей кровью мы сберегаем наш мир для следующих поколений…
Твои слова. Твое искусство.
Пальцы Энджела отпускают ее. Они уходят во тьму, и слышно, как вжикают, открываясь, «молнии» его сумки. Коричневый кожаный запах отступает от Мисти, и Энджел – щелк-вспышка, щелк-вспышка – делает снимки. Он опрокидывает фляжку в свой рот, и отражение Мисти скользит вверх-вниз по металлу между его пальцами.
Под Мистиными пальцами, скользящими по стенам, письмена гласят:
– …Я сыграл свою роль. Я нашел ее…
Они гласят:
– …это не моя работа, кого-то убивать. Это она палач…
Чтобы запечатлеть боль достоверно, говорит Мисти, скульптор Бернини сделал набросок собственного лица, пока жег свою ногу над свечкой. Когда Жерико[13] писал «Плот Медузы», он отправился в госпиталь, чтобы сделать наброски лиц умирающих. Он принес их отрезанные головы и руки в свою мастерскую, чтобы исследовать, как кожа меняет цвет по мере гниения.
Стена гулко грохочет. Гулко грохочет опять, штукатурка и краска дрожат под пальцами Мисти. Домовладелица на другой стороне пинает стену еще раз своим холщовым яхтсменским полуботинком, и цветочки и птички в рамочках дребезжат по желтым обоям. По каракулям черной наспреенной краски. Она орет:
– Вы можете сказать Питеру Уилмоту, что он сядет в тюрьму за это дерьмо.
Вдали от всего этого шипят и разбиваются океанские волны.
По-прежнему выписывая пальцами твои слова, пытаясь почувствовать, что же ты чувствовал, Мисти говорит:
– Вы когда-нибудь слышали о местной художнице по имени Мора Кинкейд?
Заслоненный фотоаппаратом, Энджел говорит:
– Немного, – и щелкает затвором.
Он говорит:
– Имя Кинкейд не было связано с синдромом Стендаля?
И Мисти опрокидывает фляжку снова, делает еще один жгучий глоток, со слезами в глазах. Она говорит:
– Она умерла от него?
И, по-прежнему делая снимки, Энджел глядит на нее сквозь видоискатель и говорит:
– Посмотрите сюда.
Он говорит:
– Что вы там говорили про художников? Про эту вашу анатомию? Покажите мне, как должна выглядеть настоящая улыбка.
4 июля
Просто чтобы ты знал: это так мило. День независимости, и гостиница полнехонька. На пляже яблоку негде упасть. В вестибюле толпится летняя публика, все они топчутся на одном месте, ожидая, когда с материка запустят в воздух шутихи.
Твоя дочка Табби, у нее на обоих глазах – куски клейкой пленки. Слепая, она пробирается сквозь вестибюль, хватая и гладя людей и предметы. От камина до конторки портье она шепчет:
– …восемь, девять, десять… – считая свои шаги от одной точки до другой.
Летние пришельцы, они слегка подпрыгивают, напуганные ее маленькими ручками, что щупают украдкой. Они одаряют ее молчаливыми улыбками и отступают в сторону. Эта девочка в сарафане из выцветшей розово-желтой шотландки, ее темные волосы собраны в хвост желтой лентой, она – идеальный ребенок острова Уэйтенси. Вся – розовая помада и розовый лак для ногтей. Играет в какую-то очаровательную старомодную игру.
Она пробегает раскрытыми ладонями по стене, ощупывает картину в раме, касается пальцами книжного шкафа.
Снаружи, за окнами вестибюля – вспышка и гулкий грохот. Шутихи запущены с материка, летят по дуге вверх и все ближе по направлению к острову. Как будто гостиница подверглась атаке.
Огромные солнца оранжево-желтого пламени. Красные взрывы огня. Голубые, зеленые шлейфы и искры. Каждый раз гулкий грохот запаздывает, как гром вслед за молнией. И Мисти подходит к своей дочурке и говорит:
– Душка, уже началось.
Она говорит:
– Разлепи свои глазки, пошли посмотрим.
С глазами, по-прежнему закрытыми пленкой, Табби говорит:
– Мне нужно запомнить пространство, пока все здесь.
Пробираясь на ощупь от пришельца к пришельцу – все они замерли и смотрят на небо, – Табби считает свои шаги до дверей вестибюля и террасы снаружи.
5 июля
На вашем первом настоящем свидании – твоем с Мисти – ты натянул для нее холст.
Питер Уилмот и Мисти Кляйнман на свидании, сидящие в высоких сорняках на большом пустыре. Летние пчелы и мухи, вьются вокруг них. Сидят на пледе, принесенном Мисти из ее квартиры. Ее ящик с красками – блеклое дерево под пожелтевшим лаком, с шарнирами и уголками из латуни, потускневшими почти до черноты, – Мисти разложила ножки, превратив его в мольберт.
Если ты уже вспомнил об этом, листай дальше.
Если ты помнишь, сорняки были так высоки, что тебе пришлось затаптывать их, чтобы сделать гнездышко на солнце.
Это был весенний семестр, и всех в колледже, кажется, обуяла одна и та же идея. Сплести CD-плеер или персональный компьютер, используя только местные травинки и палочки. Кусочки кореньев. Пестики. В воздухе сильно воняло резиновым клеем.
Никто не натягивал холстов, не писал пейзажей. Это считалось неостроумным. А Питер уселся на тот самый плед на солнце. Расстегнул свою куртку и задрал подол мешковатого свитера. И там, вжатый в кожу его живота и груди, оказался подрамник с чистым холстом, прикрепленным степлером.
Вместо крема от загара ты втер рашкуль под оба глаза и вдоль переносицы. Большой черный крест в самом центре твоего лица.
Если ты читаешь это сейчас, то ты пробыл в коме бог знает как долго. Последнее, на что рассчитан этот дневник, – это достать тебя.
Когда Мисти спросила, зачем ты таскаешь подрамник под шмотками, вот так вот засунув его под свой свитер…