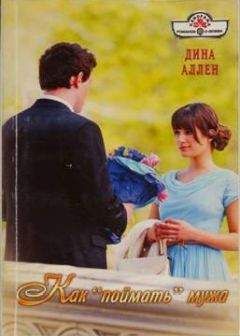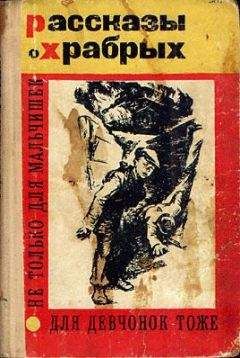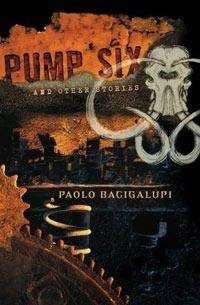Чак Паланик - Дневник
В художественном колледже тебе рассказывают, что знаменитые мастера былых дней, вроде Рембрандта, Караваджо[19] и братьев Ван Эйк[20] всего лишь копировали. Рисовать так, как они, учитель Табби ей не даст ни за что. Ганс Гольбейн,[21] Диего Веласкес – они сидели в бархатном шатре, в мутной тьме, и делали наброски с внешнего мира, который проникал внутрь через маленькую линзу. Или отражался от искривленного зеркала. Или, как в камере обскура, просто проецировался в их тесную темную комнату сквозь крохотное отверстие. Они проецировали внешний мир на экраны своих холстов. Каналетто,[22] Гейнсборо,[23] Вермеер,[24] они просиживали во тьме часы, а то и дни напролет, копируя контуры здания или обнаженной модели, находившихся снаружи, в ярком солнечном свете. Порой они даже клали краску прямо на спроецированные цвета, копируя сияние ткани, ниспадавшей спроецированными складками. И писали точный портрет за один-единственный день.
Для протокола: «камера обскура» по-латыни значит «темная комната».
Там, где конвейер обнимается с шедевром. Фотоаппарат, в котором масляные краски – вместо оксида серебра. Холст вместо пленки.
Они проводят здесь все утро, и вот Табби подходит и встает рядом с матерью. Табби держит в руках раскрытую книжку и говорит:
– Мама?
Уткнувшись носом в страницу, она говорит Мисти:
– Ты знала, что огонь должен быть не холоднее шестисот градусов и гореть не менее семи часов, чтоб полностью спалить средних размеров человеческое тело?
В книжке – черно-белые фотографии жертв пожаров, свернувшихся в «боксерскую позицию», их обугленные руки подтянуты к лицам. Сжаты в кулаки, спеченные жаром пожара. Обугленные черные боксеры-профессионалы. Книжка называется «Случаи пожара: судебное расследование».
Для протокола: погода сегодня – нервное отвращение с гипотетической опаской.
Миссис Терримор поднимает взгляд из-за своего стола. Мисти говорит Табби:
– Поставь это на место.
Сегодня в библиотеке, в отделе искусства, твоя жена трогает наугад корешки книг на полке со справочниками. Наугад открывает один, и там говорится: когда художник использовал зеркало, чтобы спроецировать образ на холст, образ выходил отраженным. Вот почему на стольких полотнах старых мастеров все люди – левши. Когда художник использовал линзу, образ переворачивался вверх ногами. Как бы старые мастера ни смотрели на предмет, они видели его искаженным. В этой книге старая гравюра на дереве изображает художника, копирующего проекцию. И кто-то написал поперек страницы:
– Ты можешь сделать то же самое, используя свой разум.
Вот зачем поют птицы: чтобы пометить свою территорию. Вот зачем ссут собаки.
Все равно что послание Моры Кинкейд на нижней стороне столика шесть в «Столовой Дерева и Злата», ее жизнь после смерти:
– Раскрой любую книгу из библиотеки, – написала она.
Ее карандашное вечное влияние. Ее самодельное бессмертие.
Новое послание подписано: Констанс Бёртон.
«Ты можешь сделать то же самое, используя свой разум».
Мисти наугад стаскивает с полки еще один справочник и раскрывает его. В нем говорится о художнике Шарле Мерионе, великолепном французском гравере, что стал шизофреником и умер в доме для умалишенных. Одна из его гравюр, «Министерство морского флота Франции» – классическое каменное здание за частоколом высоченных колонн с каннелюрами, – кажется совершенной, пока ты не замечаешь, что с неба спускается целый рой чудовищ.
И карандашная надпись поперек облаков над чудовищами гласит:
– Мы – их наживка и их ловушка.
Подпись: Мора Кинкейд.
Закрыв глаза, Мисти пробегает пальцами по хребтам книг на полке. Ощупывая ребра кожи, ткани и бумаги, она вслепую вытаскивает книгу и дает ей раскрыться у себя на ладони.
Вот он, Франсиско Гойя, отравленный свинцом, что содержался в его ярких красках. В цветах, которые он выскребал из чанов и наносил на холст пальцами, пока не заболел свинцовой энцефалопатией, ведущей к глухоте, депрессии и сумасшествию. Вот его картина: Сатурн пожирает собственных детей. Мутное черное месиво вокруг пучеглазого гиганта, откусывающего руки у безголового трупа. На белом поле страницы кто-то написал:
– Если ты это нашла, ты все еще можешь спастись.
Подпись: Констанс Бёртон.
В следующей книге французский живописец Ватто изображает себя бледным, тщедушным гитаристом, умирающим от туберкулеза, как сам Ватто в реальной жизни. Поперек голубого неба над гитаристом написаны слова:
– Не пиши им никаких картин.
Подпись: Констанс Бёртон.
Чтобы устроить себе проверку, твоя жена идет через библиотеку, мимо старой библиотекарши, глядящей на нее сквозь маленькие круглые очки в черной проволочной оправе. В руках у Мисти книги о Ватто, Гойе и камере обскура – все они раскрыты и сложены стопкой, обложка одной между страниц другой. Табби поднимает взгляд из-за стола, заваленного детскими книжками. В отделе художественной литературы Мисти вновь закрывает глаза и бредет, ведя пальцами по ветхим корешкам. Наугад она останавливается и вытаскивает книгу.
Это книга о Джонатане Свифте, о том, как у него развился синдром Меньера и как его жизнь погубили головокружение и глухота. От горечи он написал свои мрачные сатиры «Путешествия Гулливера» и «Скромное предложение», в которой подсказывал, что британцы могут выжить, поедая неудержимо растущие толпы детей-ирландцев. Его лучшее творение.
Книга сама собой раскрывается на странице, где кто-то написал:
– Они заставят тебя убить всех детей Божьих, чтобы спасти своих собственных.
Подпись: Мора Кинкейд.
Твоя жена, она втискивает эту новую книгу в предыдущую и вновь зажмуривается. Неся свою охапку книг, она протягивает руку, чтобы нащупать следующую книгу. Мисти перебирает пальцами корешок за корешком. Ее глаза закрыты, она ступает вперед – и будто наталкивается на мягкую стену и запах тальковой гигиенической пудры. Открыв глаза, она видит красную помаду на белом напудренном лице. Зеленая кепка без верха поперек лба, над нею копна седых курчавых волос. На кепке надпись: «Позвони 1-800-555-1785 и Получишь Полное Удовлетворение».
Под козырьком – очки в черной проволочной оправе. Твидовый костюм.
– Прошу прощения, – раздается голос, и это миссис Терримор, библиотекарша. Она стоит стеной, скрестив руки на груди.
И Мисти отступает на шаг.
Красная помада говорит:
– Я была бы очень признательна, если бы вы не портили книги, вот так вот запихивая одну в другую.
Бедная Мисти, она говорит, что ей очень жаль. Вечный изгой, она идет, чтобы сложить книги на стол.
И миссис Терримор, растопырив пальцы, вцепившись в книги, она говорит:
– Пожалуйста, дайте я поставлю их обратно на полку. Пожалуйста.
Мисти говорит, пока нет. Она говорит, что хотела бы их пролистать, и пока две женщины борются за охапку, одна книга выскальзывает и плашмя падает на пол. Звонко, будто пощечина. Она раскрывается на том месте, где можно прочесть: «Не пиши им никаких картин».
И миссис Терримор говорит:
– Боюсь, эти книги только для чтения в читальном зале.
И Мисти говорит:
– Нет. Не все.
В книге на полу написано: «Если ты это нашла, ты все еще можешь спастись».
Сквозь очки в черной проволочной оправе библиотекарша видит это и говорит:
– Вечное вредительство. Каждый год по новой.
Она смотрит на высокие часы в темном ореховом корпусе и говорит:
– Что ж, если вы не возражаете, сегодня мы закроемся пораньше.
Она сверяет свои наручные часы с высокими и говорит:
– Мы закрылись десять минут назад.
Табби уже пролистала свои книжки. Она стоит у парадной двери и зовет в нетерпении:
– Мам, поторопись. Тебе пора на работу.
А библиотекарша роется в кармане своего твидового пиджака и достает оттуда здоровенный розовый ластик.
7 июля
Витражные окна островной церкви… Мелкое белое отребье Мисти Мэри Кляйнман, она рисовала их еще до того, как научилась читать и писать. До того, как впервые увидела настоящий витраж. Она никогда не бывала в церкви, никогда, ни в одной. Мелкая безбожница Мисти Кляйнман, она рисовала надгробные камни деревенского кладбища, что на Уэйтенси-Пойнт, рисовала даты и эпитафии, еще не зная, что они состоят из чисел и слов.
И теперь, отсиживая здесь церковные службы, она с трудом припоминает, что воображала, а что увидела взаправду, лишь приехав сюда. Пурпурная напрестольная пелена. Толстые деревянные стропила, черные от лака.
Именно их она и воображала, когда была маленькой. Быть того не может.
Грейс рядом с ней на скамье, молится. Табби по левую руку от Грейс, обе преклоняют колени. Складывают ладони.
Голос Грейс – глаза ее закрыты, губы шепчут в щель между ладонями, – она говорит:
– Прошу тебя, пусть моя невестка вернется к живописи, которую так любит. Прошу тебя, не дай ей похоронить великолепный талант, которым ты ее одарил…