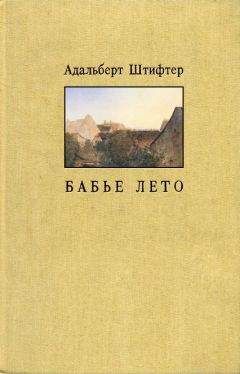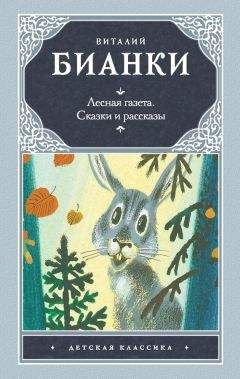Адальберт Штифтер - Лесная тропа
Все же Виктор начал уже раскаиваться, что остался на острове; главным образом потому, что он не мог понять цель и причину дядиных поступков.
— Я тебя скоро отпущу, — сказал как-то за обедом дядя, как раз когда над Гризель разразилась великолепная гроза и, словно алмазные стрелы, низринула шумные струи дождя на озеро, по которому побежала рябь и запрыгали пузыри. Из-за грозы дядя с племянником задержались за столом несколько дольше обычного.
Виктор ничего не ответил на слова дяди и стал ждать, что за ними последует.
— В конце концов, все напрасно, — снова медленно заговорил дядя, — все напрасно: молодость и старость не могут ужиться рядом. Видишь ли, ты добрый, ты твердый и искренний, ты лучше, чем в эти же годы был твой отец. Я все это время наблюдал за тобой и думаю, что на тебя можно положиться. Тело твое, благодаря врожденной силе, стало крепким и красивым, и ты охотно развиваешь в себе эту силу, бродя у подножия скал на чистом воздухе или плавая в озере, — но что толку? Это благо от меня далеко, да, очень далеко, по ту сторону необозримого пространства. Недаром тайный голос все время твердил мне: ты не добьешься того, чтобы взор его обратился на тебя, чтобы для тебя открылось его доброе сердце, потому что не ты посеял и взрастил в нем эту доброту. Я понимаю, что это так. Годы, которые надо было бы потратить на это, миновали, они уже по ту сторону горы, идут под уклон, и нет такой силы, что могла бы перетащить их на прежнюю сторону, на которой теперь уже лежат холодные тени. Итак, ступай, ступай к старухе, от которой ты едва ли можешь дождаться письма, — ступай туда и живи спокойно и радостно.
Виктор был в величайшем смущении. Старик сидел так, что лицо его освещалось молнией, и в сумеречной комнате иногда казалось, будто по его седым волосам пробегает огонь, а по морщинистому лицу струится свет. Если прежде бессмысленное молчание и мертвящее равнодушие старика наводили на Виктора тоску, угнетали его, то теперь его тем сильнее поразило возбуждение, охватившее дядю, который сидел в кресле, выпрямив свое длинное тело, и, несомненно, был взволнован. Некоторое время юноша не отзывался ни словом на его речь, смысл которой он скорее угадывал, чем понимал.
— Вы, дядя, что-то сказали о письмах, — заговорил он наконец. — Должен честно признаться, что был очень обеспокоен, не получив ответа на те несколько писем, что я послал домой, хотя с тех пор, как я здесь, Кристоф раз двадцать, если не больше, ездил в Гуль и в Атманинг.
— Я это знаю, — сказал дядя, — но ты и не мог получить ответ.
— Почему?
— Потому что я так устроил и договорился с твоими, чтобы, пока ты здесь, они тебе не писали. Впрочем, можешь успокоиться, они все здоровы и благополучны.
— Нехорошо вы поступили, дядя, — сказал взволнованный Виктор, — меня бы так порадовали слова приемной матери, присланные мне в письме.
— Вот как ты ее, старуху, любишь, — сказал дядя, — я всегда так думал!
— Если бы вы кого-нибудь любили, и вас бы кто-нибудь любил, — возразил Виктор.
— Тебя бы я любил, — вырвался у дяди крик, от которого Виктор даже вздрогнул.
На несколько мгновений стало тихо.
— И старый Кристоф любит меня; пожалуй, и старая служанка тоже любит, — опять заговорил дядя.
— Что же ты молчишь? — обратился он спустя немного к племяннику, — как обстоит дело с взаимной любовью, а? Да ответь же наконец!
Виктор молчал, он не мог вымолвить ни слова.
— Вот видишь, я так и знал, — сказал старик. — Успокойся; я согласен, согласен, ладно. Ты хочешь уехать, я дам тебе лодку, чтобы ты мог уехать. Ты подождешь, пока кончится дождь, да?
— Подожду, подожду и дольше, если вам надо серьезно потолковать со мной, — ответил Виктор. — Но вы должны все же признать, что обидным произволом человека к себе не привяжешь. Ведь по меньшей мере странно, что вы держали меня пленником на острове, куда перед тем пригласили и куда я доверчиво пришел пешком, потому что вы так хотели и потому что опекун и мать убедительно просили меня исполнить ваше желание. Далее, странно и то, что вы лишили меня писем от матери, и еще более странно то, что, может быть, когда-то случилось, а может быть, и не случилось вовсе.
— Ты рассуждаешь по своему разумению, — ответил дядя, пристально вглядываясь в племянника, — многое, цель и конечный исход чего тебе еще неизвестны, может показаться тебе жестокостью. В моих поступках нет ничего странного, наоборот, все ясно и понятно. Я хотел тебя видеть, потому что ты унаследуешь мое состояние, именно поэтому я и хотел тебя видеть в течение долгого времени. Никто не подарил мне ребенка, потому что все родители оставляют своих детей при себе. Когда кто-либо из моих знакомых умирал, я бывал где-то в отъезде, в конце концов я обосновался на этом острове, который приобрел во владение вместе с домом, некогда бывшим монастырским судилищем. Я хотел бродить здесь по траве, среди деревьев, растущих на воле, как росли они до меня. Я хотел тебя видеть. Я хотел видеть твои глаза, твои волосы, ноги и руки, всего тебя целиком так, как видят сына. Поэтому-то мне и надо было иметь тебя для себя одного и задержать здесь подольше. Если бы они стали тебе писать, ты, как и раньше, был бы под их изнеживающей опекой. Я должен был вырвать тебя из-под этой зависимости на воздух, на солнце, иначе ты стал бы таким же слабохарактерным, как твой отец, таким же податливым и предал бы тех, кого, как сам думаешь, любишь. Ты вырос более сильным, ты налетаешь, как молодой ястреб; это хорошо — хвалю тебя, но твердость своего сердца ты должен был испытать не на трепетных женщинах, а на скалах, — а я скорее всего именно скала; держать тебя, как в плену, было необходимо — тот, кто не способен при случае метнуть каменную глыбу насилья, тому по самой его природе не дано решительно действовать и оказывать помощь. Ты иногда выпускаешь когти, но сердце у тебя доброе. Это хорошо. В конце концов ты все же стал бы мне сыном, тебе бы захотелось уважать и любить меня, и, если бы так случилось, те, другие, показались бы тебе ручными и мелкими людишками; до глубины моей души они тоже не смогли проникнуть. Но я понял, что, пока ты придешь к этому, утечет добрых сто лет, и потому иди, куда тебя влечет, все кончено… Сколько раз я просил отпустить тебя ко мне, пока наконец они согласились. Твой отец должен был отдать тебя мне, но он считал, что я лютый зверь и разорву тебя. Я вырастил бы тебя орлом, который держит мир в своих когтях и в случае необходимости сбросит этот мир в пропасть. Но твой отец раньше полюбил эту женщину, потом покинул ее, и все-таки у него не хватило сил навсегда вырвать ее из своего сердца, нет, он все время думал о ней и, умирая, сунул тебя ей под крылышко, чтобы ты сам стал какой-то наседкой, которая сзывает цыплят и только громко кудахчет, когда один из них попадет под копыто лошади. Уже за эти несколько жалких недель у меня ты вырос, потому что должен был бороться против насилия и гнета, со временем ты вырос бы еще больше. Я пожелал, чтобы ты проделал всю дорогу сюда пешком, чтобы ты хоть отчасти узнал, что такое вольный воздух, усталость, самообладание. То, что я смог сделать после смерти Ипполита, твоего отца, я сделал, об этом ты узнаешь позднее. Я позвал тебя сюда еще и с той целью, чтобы, кроме всего прочего, дать тебе добрый совет, которого тебе не могут дать ни канцелярская крыса — твой опекун, ни та женщина; твое дело — последовать моему совету или нет. Возможно, ты хочешь уйти еще сегодня, а уж завтра уйдешь обязательно, поэтому я дам тебе сейчас этот совет. Слушай. Ты, значит, решил поступить на службу, которую они для тебя исхлопотали, чтобы ты зарабатывал себе на хлеб и был обеспечен?
— Да, дядя.
— Видишь, а я уже исходатайствовал тебе отсрочку. Как же ты, выходит, необходим и как важна твоя служба, раз тебя могут дожидаться без ущерба для дела! Отсрочка дана на неопределенный срок. Я могу, ежели только пожелаю, в ту же минуту получить для тебя увольнение. Следовательно, эта служба не нуждается в твоих незаменимых дарованиях, больше того — кто-то, кому необходимо служить, уже с нетерпением ожидает твоего ухода. Пока ты и вправду еще не можешь дать ничего такого, ради чего действительно стоило бы идти в чиновники, ты еще только-только вышел из детского возраста, только-только соприкоснулся с крошечным кусочком жизни, который тебе предстоит узнать, но даже этого кусочка ты еще не знаешь. Значит, если ты сейчас поступишь на службу, то самое большее — будешь делать бесполезное дело, а здоровье свое будешь подтачивать изо дня в день. Я придумал для тебя что-то другое. Самое лучшее, самое важное, что тебе сейчас надо сделать, это — жениться.
Виктор посмотрел на дядю своим ясным взором и воскликнул:
— Жениться?
— Да, жениться, конечно, не сию минуту, но жениться молодым. Сейчас я тебе растолкую. Каждый живет для себя. Правда, не все в этом признаются, но поступают так все. И поступки тех, кто не признается, часто особенно беззастенчиво своекорыстны. Это отлично знает тот, кто идет на государственную службу, ведь служба для него — та нива, которая дает урожай. Каждый идет туда для себя, но не каждому удается туда поступить, многие всю жизнь корпят над тем, что не стоит ломаного гроша. Человек, который поставлен был тебя опекать, полагал, что позаботится о тебе, с молодых лет засадив за канцелярскую работу, ради того, чтобы ты всегда мог есть и пить досыта; та женщина в своей близорукой добросердечности сколотила для тебя небольшую сумму — я даже точно знаю, какую, — достаточную, чтобы ты имел возможность в течение некоторого времени покупать себе чулки. Она, конечно, сделала это от чистого сердца, от самого что ни на есть чистого сердца, потому что побуждения у нее прекрасные. Только какое это имеет значение? Каждый живет для себя, но живет он лишь тогда, когда отпущенные ему силы прилагает к работе и деятельности, потому что в этом и есть жизнь и наслаждение — только так он исчерпает жизнь до дна. А когда он сможет завоевать поле деятельности для всех своих сил — не важно, велики они или малы, — вот тогда его жизнь, какой бы жизнью он ни жил, будет благом и для других, да иначе и быть не может, ведь мы воздействуем на тех, кто нам дан: ведь сочувствие, участие, сострадание — тоже силы, они тоже требуют деятельности. Я скажу больше: пожертвовать собой ради других — даже жизнью пожертвовать, если мне дозволено употребить это выражение, — это и есть самый полный расцвет своей собственной жизни. Но кто по бедности духа расходует одну-единственную из данных ему сил, чтобы удовлетворить только одну потребность, ну, хотя бы потребность в пище, тот и сам станет односторонним и жалким, и погубит тех, что около него. О Виктор, знаешь ли ты жизнь? Знаешь ли ты то, что зовется старостью?