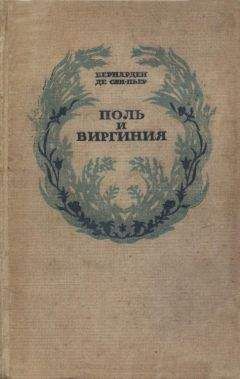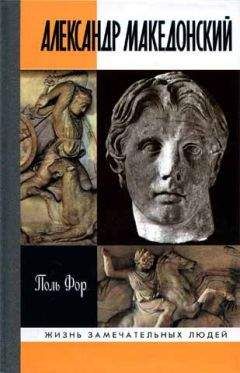Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
И в самом деле, увиденное настроило меня таким образом, что я – поскольку упомянутый славный гигант не имеет ничего, кроме силы, – поговорил об этом с четырьмя другими великолепными беллетристами (я никогда не развяжу им ремни сандалий, если, конечно, сами они не попросят) и спросил их, почему бы нам не объединиться и не дать молодому человеку возможность за наши деньги освоить самые необходимые учебные курсы. «Мы обтешем этого Зрюстрица, – сказал я, – чтобы он идеально подходил для наших сочинений; или, точнее, он сам должен приспособить свои дедуктивные теории к выдающимся и прочим произведениям своих кормильцев: чтобы когда-нибудь в будущем – в качестве нашей неподвижной звезды и нашего драбанта, в качестве шафера и chevalier d’honneur пяти наших муз, короче, в качестве нашего рецензента-маркёра – он мог в тех различных печатных изданиях, какие сейчас имеются в мире, выносить суждения о наших трудах и высоко их оценивать».
Все с этим согласились. И у нас пятерых поистине не было причин жалеть о наших тратах, ибо позже, уже в первом семестре, мы услышали, что наш протеже не боится полярностей и индифферентности, что он – трансцендентный эквилибрист и полярный ледовый медведь, что он индифференцирует людей, а себя потенцирует, что он, хотя и не стал ни поэтом, ни врачом, ни философом, но (что, может быть, важнее) вобрал в себя все это. И в самом деле, он вскоре стал называть нас в своих рецензиях пятью директорами, даже пятью чувствами ученого мира, а я, по его словам, являюсь среди них Вкусом – le Gout, el Gusto [37], – но, впрочем, он чертовски свободно говорит и о любом другом. «Может быть, ты прав, мой пламенный Зрюстриц», – сказал я однажды, когда он написал, что предвидит: по прошествии четырех или пяти лет Гёте окажется так же глубоко внизу, как сейчас Виланд. «Ну и что с того? – откликнулся он. – Я иногда тоже запускаю ядро кометы в голубое эфирное поле и нисколько не беспокоюсь, взойдет ли эта комета, полетит ли, как огненный цветок… На небесной оси бесконечности полюса – это одновременно экваторы: там всё едино, господин легационный советник!»
И вот теперь четыре звезды литературы (я бы сказал – пять, если бы сам не относился к их числу) ходатайствуют перед высокоблагородным советом, чтобы наследство сарыча, истребителя мышей, предназначенное как раз для бедных студентов, досталось нашему славному голоштаннику; ибо таковым он в самом деле является, поочередно в собственном и несобственном смысле: как если бы и здесь дифференцировал и индифференцировал, выбирая, по своему усмотрению, реализм или идеализм – как две переменные позиции, выводимые из некоей третьей. Я имею в виду вот что: у него ничего нет. Его Marquisat de Quinet [38] приносит слишком мало доходов – а ему нужно очень много воодушевляющих возможностей, чтобы он сам мог стать одной из них (и покрытые виноградниками горные склоны – это лестница-терраса, по которой он взбирается на свою гору муз), – нам, пяти маркизам, тоже нелегко кормить шестого; а если сейчас Зрюстрицу передадут сарычево наследство, то он сможет – для проформы – проедать его в Иене или в Бамберге; но при этом с удобством для себя выносить суждения о литераторах: некоторых, немногих, увенчивать венком и держать на отдалении, на других, бессчетных, едва-едва бросать искоса короткий взгляд, пошлость – от всего сердца презирать; из четырех-пяти понятий и писателей методом дедукции выводить многое: например, роман, юмор, поэзию, – и при этом полностью относиться к числу так называемых цельных людей. Сам же покойный сарыч – которого я, правда, не знаю, но который наверняка в конечном счете выиграл от переселения в мир иной, – наверное, с душевной радостью скажет там, наверху, когда услышит о таких плодах своего наследства: «Я от всего сердца предоставляю свое наследство этой беспутной мушке внизу – хотя бы уже потому, что она улетела прочь от прежней точки рефлексии, опередив меня в этом на целый мир».
О Боже, члены городского совета! Как много я мог бы еще сказать, не будь это уже напечатано! Любой автор только тем и занимается, что предлагает раскусывать грецкие орехи, каждый из которых подобен мозгу – который Ле Камю им уподоблял – и которые, следовательно, имеют по три оболочки; но кто сумеет их от этих оболочек очистить? Любой известный автор скромен; но здесь как раз и заключается его несчастье: никто не знает, как он скромен, потому что он не может говорить о себе и сказать это. Он мог бы сто раз перекрашивать своего «денщика», облачая его во все новые ливреи; мог бы закруглить, скрутить железный дымоход печки, превратив его в пылающий росчерк своего имени, – однако никто не знает, что он ничего такого не делает. Если вдуматься, сколько сражений – как в Европе, так и за ее пределами, – дал или выдержал Бонапарт только ради того, чтобы его имя начали писать правильно, без «у» (то есть без Игрека, благодаря чему он и представляет теперь для французов Икс, то есть алгебраический знак неизвестной величины); если, иными словами, вдуматься, с каким трудом человек создает себе имя и насколько легко оно опять стирается из человеческой памяти: то, поистине, вряд ли нас утешит, что, если говорить о непризнании, другим великим людям тоже приходилось не лучше – например, великому Готшеду, который даже в Геллертовом Лейпциге выстрадал много такого, чего не хотелось бы видеть повторившимся здесь.
Четвертый пункт, о котором я обещал написать высокоблагородным членам магистрата, – как раз самый дурацкий, по которому прекрасно будет сражаться молодой Зрюстриц на газетных страницах. Дело в том, что один высокоблагородный городской магистрат из дальних мест выразил желание, чтобы эта книга писалась в несколько слезливой, трогательной манере. Но возможно ли это, почтеннейшие, в наши дни, которые поистине представляют собой один-единственный светлый день, когда Просвещение горит, словно зажатый в щипцах подожженный кусок веревки, от которого в общественных местах поджигает свои головы любая табачная коллегия? Кто еще позволяет себе публично выказывать некоторую чувствительность (а таким можно только позавидовать) – это либо книготорговцы в объявлениях о рождении очередной книги (потому что определенную толику чувствительности в таких случаях можно извинить корыстолюбием); либо радостные наследники в публикуемых ими траурных объявлениях (где по тем же соображениям считается допустимым ввинтить штопор, дающий волю слезам, и потянуть его вверх). Во всех же прочих ситуациях люди настроены против слез, особенно против настоящих: слезные кувшины разбиты, плачущие статуи Марии опрокинуты нынешними титаноманами – лучшие водопроводные сооружения закладываются еще раньше рудников, чтобы осушать шахты, – как на медеплавильных заводах, так и на заводах, где плавятся души, то бишь в романах, строжайше запрещено приносить в цех хоть каплю воды, потому что любая такая капля вспучивает раскаленную текучую медь, воздействуя на нее разрушительно, – нынешний человек вообще начинает, и именно со слез (если судить по оленям и крокодилам), сбрасывать с себя животное естество и облачаться в чисто человеческое, и тут уж он начинает со смеха: так что теперь поэтическую колдунью (впрочем, и прозаическую ведьму тоже) можно опознать по тому признаку, что она не способна плакать.
Короче говоря, сегодня растроганность под запретом: мол, лучше уж сухотка спинного мозга, чем водянка глаз; и мы, авторы, порой украдкой признаемся друг другу в письмах, каким жалостным образом нам часто приходится корчиться и изворачиваться, чтобы, когда возникает повод для слез (мы сами невольно над этим смеемся), ни одна капля не упала на бумагу.
Я неохотно заканчиваю это письмо; но голоштанник Зрюстриц уже стоит в сапогах за спиной переписчика Хальтера и ждет, чтобы положить готовую копию в свою охотничью сумку; ибо в самом деле трудно сказать, что еще мог бы я поведать превосходным исполнителям завещания по поводу сей книги. Надеюсь, мне и всему миру не придется слишком долго ждать от вас ближайших 500 номеров! Мало-помалу, к началу четвертого тома, в биографии все заметнее проступает своеобразная интрига. Ибо теперь должны приблизиться и обрести форму самые драгоценные эпизоды; и я сгораю от нетерпения в предвкушении новых номеров. Повсюду расставлены капканы, летают дымовые снаряды, бродят охотники с трещотками, зияют клешни омаров – совсем недавний союз Вальта и Вины слишком странен и не сможет долго существовать без сильнейших бурь, которые будут бушевать на протяжении целых томов, от одной книжной ярмарки до другой, – ночной визит Якобины должен иметь запутанные последствия (или, по крайней мере, может к ним привести) – господин, облаченный в личину, должен быть разоблачен (хотя я, говоря по правде, уже догадался, кто он: ведь мне он отчетливо виден) – Вульт отягощен своим худодумом, он лживо причисляет себя к дворянам, кормится воздухом, слишком легко впадает в неистовство – эльзасец, составивший завещание, уже совершенно выздоровел и выглядывает из резонансного окошка – наследники в большинстве наверняка уже ведут подкопы, но я, признаюсь, пока ничего такого не вижу, – отец героя сидит дома, и носится по своим делам, и залезает в долги, которые тяжким бременем ложатся на его дом и двор, – Пасфогель, Харпрехт, Гланц, Кнолль еще непременно покажут себя, но пока что роют ходы под землей, – Боже правый, поистине, это одна из самых запутанных историй, какие я знаю! Вальту предстоит стать пастором, а я не понимаю, как, не лучше обстоит дело и с сотней других вещей: граф Клотар намерен жениться, он вернется и, клянусь небом, окажется в совсем новой для него ситуации, что, конечно, его несколько фраппирует, – Вальт хочет по-прежнему оставаться бесконечно добрым и услужливым, быть кротким Божьим агнцем, но ему грозит опасность из агнца превратиться в овцу, точнее, в кастрированного барана, под воздействием ножниц для стрижки овец и мясницких ножей, – короче, куда ни глянь, везде ловчие петли, языки пламени, враги, друзья, небо, ад!..…