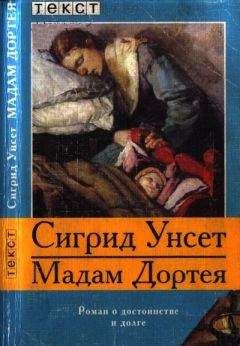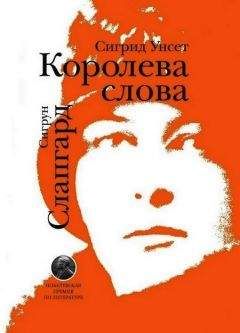Сигрид Унсет - Улав, сын Аудуна из Хествикена
Стоило ему затеять с Ингунн разговор, что, дескать, не худо бы взять домоправительницу, как она вовсе голову теряла, принималась плакать и молить его, чтоб он не срамил ее на всю округу. Тщетно твердил он ей, что в хвори своей никто не волен и никакого стыда в том нет. Он знал, что сейчас ему надобно говорить с Турхильд, не спросив у жены совета. Худо только, что детей у них много, младшеньких придется ей взять с собою. От них будет немало беспокойства да шуму, а этого Ингунн не терпела.
«Ребятишки Турхильд», – говорили люди про шестерых малолеток, оставшихся после смерти Бьерна и Гудрид. Мать-то у них была словно крольчиха – носила одного детеныша за другим, а думать о них не думала. Падчерица брала каждого ребятенка к себе на колени и поила его из коровьего рожка. Гудрид же только и знала, что слоняться по округе. В ранней юности Турхильд прочили за степенного парня с хорошим достатком, да только он приходился близким родичем Гуннару, которого Бьерн лишил жизни на свою беду, и свадьба расстроилась. После того пришлось ей горе горевать на своем захудалом хуторке, работать за бабу и за мужика. Люди знали ее мало, однако молва о ней шла добрая. Дурнушкой ее нельзя было назвать, только никто не думал, что ее кто добрый возьмет за себя. Перестарок – двадцати восьми или девяти годов. Двое старшеньких, ее сводных братьев, уже могли пойти в услужение, да когда люди затевали о том речь, Турхильд отвечала, что они-де ей дома нужны.
Воскресным днем, вскоре после того как Ингунн сильно занемогла, Улав увидал Турхильд, дочь Бьерна, в церкви. Она стояла с краю на женской половине, закутанная в длинный и широкий черный плащ. Шлык был надвинут у ней на глаза, но со стороны Улав различал ее бледное лицо на черной шерстяной сермяге. Она походила на своего отца – высокий прямой лоб, нос, длинный, но с красивой горбинкой, рот большой, губы крепко сжатые, словно в молчаливом терпении, подбородок сильный и красивый. Ее светлые волосы потускнели и свисали прядями на лоб; сероватое лицо, казалось, загрязнилось от копоти и сажи, что въелась в кожу. У нее были большие серые глаза, только веки покраснели, а белки покрылись красными прожилками. Видно, много ей пришлось стоять, склонясь над очагом, в тесной, дымной хижине. Сложенные молитвенно руки, все время придерживающие плащ, были невелики, с длинными пальцами, но сизые от мороза, с трещинками, черными от просочившейся в них грязи, и с обломанными ногтями. Хотя девушка завернулась в плащ, было видно, что держится она очень прямо.
После службы Улав постоял на церковном холме и потолковал с крестьянами. Домой он отправился один – его челядинцы уехали ранее.
Он выехал на опушку леса, где раскинулись большие болота. У последнего болота приютился хуторок. Сразу же за скотным двором конная тропа разветвлялась – одна ветка шла к югу на Рюньюль, а та, что поменьше, – вниз, к Хествикену. Сворачивая на тропу, что вела к дому, Улав вдруг увидел возле дома Турхильд, дочь Бьерна; она уже сняла с себя плащ и вернула его женщине, которая дала ей надеть его ради праздника. Завидев всадника, она резко повернулась и быстро пошла к замерзшему болоту, словно убегая от него. Улав догадался, отчего она так куталась в плащ, – под плащом на ней была только рубаха из грубого некрашеного рядна. У рубахи был круглый вырез и рукава до локтей, руки и голые ноги, видневшиеся из-под нее, посинели от холода. На ногах у ней были стоптанные мужские башмаки. Она опоясалась полоской сермяги, и Улав подивился ее тонкому, стройному стану.
Такую одежду надевали жницы, когда жали рожь в летний день. Улаву вдруг представилось синее небо, яркое солнышко над полем и тепло; бабы ходят в наклонку с охапками спелой, душистой соломы. Он глядел вслед одетой по-летнему девушке, которая торопливо шла в сторону замерзшего болота, к лесу, где стояли заиндевевшие седые ели. Она, поди, сильно замерзла! Турхильд была простоволосая, на прямой и сильной спине ее лежала толстая, тяжелая коса. Улаву вдруг стало жаль девушку. С минуту он сидел на коне, глядя в ее сторону, потом проехал немного вперед… повернул коня и поскакал к хутору.
Небольшая пашня Бьерна, сына Эгиля, лежала по другую сторону холма, густой ольшаник почти вовсе скрывал ее от людей, которые ехали по дороге. Улав приметил, что с тех пор как он здесь побывал за каким-то делом два года назад, тут корчевали лес. Было похоже, что несколько маленьких полосок нови распахали прошлой осенью, – слишком много каменьев и корней еще оставалось на них. Чуть повыше виднелось жнивье более светлое, чем на всем этом выбеленном инеем мшистом холме. Маленький хлев, построенный Бьерном несколько лет назад, стоял новенький, поблескивая желтыми бревнами, а вот дом он не успел поставить, они так и жили в круглой земляной избушке.
Услышав стук копыт, Турхильд отворила дверь. Позади нее из дверей выглядывали ребятишки. Увидев, что он спешился, и догадавшись, что у него есть до нее дело, она переступила порог, выпрямилась, слегка зардевшись, и глянула на него исподлобья. Улав привязал Апельвитена к дереву и накинул ему на спину вместо попоны плащ, подбитый серым мехом.
– Позволь мне войти в избу, Турхильд, хочу потолковать с тобой об одном деле.
Она стояла босая, и он не хотел, чтоб она зябла.
Турхильд вошла с ним в дом. Она бросила на земляную скамью вытертую шкуру, попросила гостя садиться и налила ему ковш козьего молока из кринки, стоявшей позади него на скамье. Молоко припахивало дымом и малость горчило, но Улаву оно пришлось по вкусу: он был сильно голоден. Изба походила на нору – две земляные скамьи да проход меж ними. Турхильд села напротив гостя, держа на коленях младенца двух годков; девочка постарше стояла позади нее, обняв ее за шею. Двое старших парнишек лежали поближе к очагу у дверей и слушали, о чем сестра говорит с гостем.
Поговорив приличия ради о том о сем, Улав сказал, зачем приехал. Мол, в доме у него неладно, она, поди, слыхала, и нет никакой надежды на то, что жена его сможет хоть самую малость управляться по хозяйству этою зимой. Не захочет ли Турхильд сделать Ингунн и ему божескую милость, помочь им в беде? А уж они в долгу у ней не останутся. Улав не нанимал ее, а просил – до того славная была девушка. Сильной казалась она с виду – широкие, прямые плечи, высокая крепкая грудь, мощные бедра. Она не ссутулилась от тяжкой работы в лачуге, на поле да в сараюшке, которая стоит у них заместо хлева.
Турхильд стала было возражать, но Улав заявил, что она может забрать с собою в Хествикен всех шестерых ребятишек. До того он думал взять двух старшеньких – от них хоть малая польза была бы – да двух младшеньких, коих нельзя было с нею разлучить. Двух же средних, поди, согласились бы приютить за плату добрые люди в округе. Скотину ее – корову, четырех коз да трех овец – он тоже возьмет к себе. По первопутку можно будет увезти корм, который она припасла им на зиму. А уж он позаботится унавозить и засеять пашни в Рундмюре.
Под конец решено было, что Турхильд наймется к Улаву и переедет в Хествикен, как только приведет в порядок одежонку свою и ребятишек. Улав обещал раздобыть для нее тканья. Он сам привез ей тканины на другой день – ни к чему знать его домочадцам про ее бедность.
Улав думал сказать Ингунн про уговор с Турхильд в тот же вечер. Но когда он вошел к болящей, в лице ее не было ни кровинки, она вовсе ослабела и, казалось, не могла ни слушать, ни отвечать. Он молча сел на край кровати. Лицо у нее было донельзя изможденное, веки лежали на ввалившихся глазах, будто тоненькие бурые пленки, кожа серая; рыжие пятна на скулах, выступившие, когда она носила второго младенца, так и не сошли. Белый головной платок она застегнула нарядной пряжкой – шея у нее была жилистая, как у ощипанной птицы. Он подумал, что, хотя серая, грубой шерсти, рубаха Турхильд застегнута заостренной на концах костью, шея у нее округлая, будто ствол дерева, а грудь полная и высокая. Здоровья и силы у нее хватало, хотя доля ей выпала тяжелая, горькая. У его горемычной женушки было вдосталь всего, что делает жизнь молодицы легкою и привольною, и вот, поди ж ты, лежит она здесь в лежку уже четвертый раз за три года – ни младенца, ни доброго здоровья. Улав погладил ее по щеке.
– Уж не знаю, чем и помочь тебе, Ингунн моя!
Он так и не решился сказать ей, что нанял домоправительницу, покуда Турхильд не перебралась к ним с оравой ребятишек и скотиною. Видно было, что Ингунн нелегко смириться с этим, но она только сказала:
– Ясное дело, нужен же тебе кто-то за домом присматривать. Я-то и всегда ни на что не годилась, а сейчас похоже, что ни жить, ни помереть не могу.
Чуть не всю зиму хворала Ингунн; выходило, как она сама сказала, – ни жить, ни помереть не могла. Но вдруг ей полегчало. Когда наступил великий пост, она даже могла садиться в постели. Весна в тот год рано пришла на фьорд.
Ждали, что опять станут собирать лединг. Крестьянам вконец опостылело воевать датчан. Никто не верил, что королю либо герцогу будет от той войны большая выгода, ведь потеряли даже то материнское наследство, что им посчастливилось отнять у своего племянника, покойного короля датского, до того, как тот был убит.