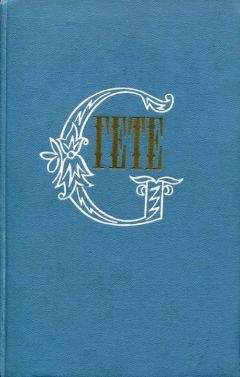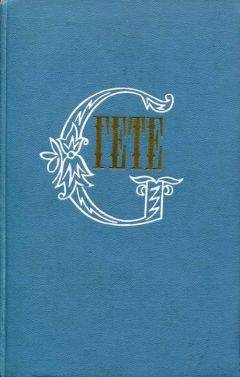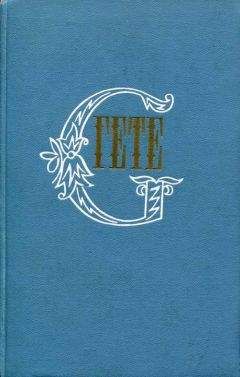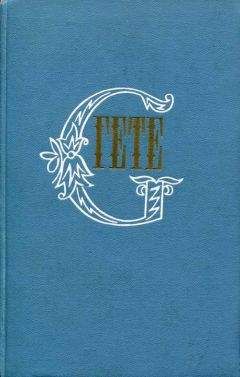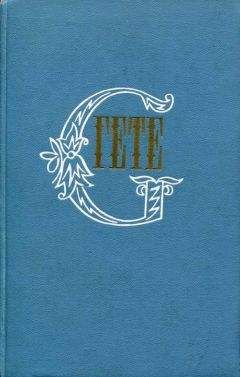Иоганн Гете - Собрание сочинений в десяти томах. Том девятый. Воспоминания и встречи
Мы вынуждены умолчать о разных направлениях деятельности, которые оказывали влияние в ту эпоху, но для наших целей необходимо более подробно остановиться на одном важном, вполне самостоятельном устремлении тех лет.
Физиогномика Лафатера придала новый поворот нравственно-общественным интересам. Лафатер знал, что владеет утонченнейшей способностью толковать впечатления, которые фигура и лицо человека производят на других, хотя сам объект его толкования и не отдает себе в этом отчета. А поскольку Лафатер был не создан для методической разработки абстрактного понятия, то он и держался конкретности, а следовательно, индивида.
Талантливый молодой художник, и прежде всего хороший портретист, Генрих Липс примкнул к нему: ни дома, ни в путешествии по Рейну он ни на шаг не отставал от своего покровителя. А Лафатер, отчасти испытывая неутолимую жажду безграничного познания, отчасти желая приобщить к своему будущему труду как можно больше значительных людей своего времени, вознамерился портретировать всех, кто хоть сколько-нибудь выделялся талантом или сословным положенном, характером или родом деятельности.
Таким образом приобрели известность многие индивиды; быть принятым в столь благородный круг — это кое-что значило; характерные свойства каждого подчеркивались самим мастером толкования, люди как бы становились ближе друг к другу, но самое странное, что сумели заявить о своей личной значительности лица, которые до той поры ничем не отличались среди остальных, включенных и вплетенных в бюргерскую и государственную жизнь человеческих дел.
Воздействие Лафатера оказалось сильнее, чем можно было предположить; каждый счел себя вправе воображать, что он существо особенное, неповторимое, завершенное. Укрепившись в своей исключительности, он уже считал для себя подобающим включать в комплекс своего драгоценного существования всевозможные чудачества, странности, нелепости. Это удавалось тем легче, что метод Лафатера сводился к рассуждениям об особой природе индивида, а о разуме, царящем над всею природой, и речи не заходило. Стихии религиозности, в которой купался Лафатер, тоже было недостаточно, чтобы умерить ширившуюся самовлюбленность, более того — у верующих даже развивалась на этой почве особенная духовная гордыня, заносчивость, превышавшая заурядную людскую гордость.
Впрочем, следствием той эпохи было и взаимное уважение индивидов. Именитых старцев почитали, те же, кто не знал их лично, почитали их портреты; и стоило молодому человеку хотя бы несколько выдвинуться, как у людей тотчас возникало желание познакомиться с ним, а если это было невозможно, то почитатели довольствовались портретом; тщательно, точно и умело сделанные силуэты пользовались всеобщим успехом. Каждый приобрел навыки в этом искусстве, и любой приезжий был запечатлен на стене в вечерний час; пантографы всегда были в работе.
Знание человека, человеколюбие — вот что обещал нам лафатеровский метод: участливость к судьбам друг друга возросла, но знание и познание душ от нее отставали, — впрочем, к знанию и к любви многие стремились весьма энергично; деятельность одного необычайно одаренного юного государя способствовала этому стремлению, поощряла и распространяла его с помощью своего разумного и наделенного живостью ума окружения. Рассказ этот был бы интересен, но, с другой стороны, пусть лучше остается в таинственном мраке начало того, что уже достигнуто. Возможно, котиледоны тогдашнего посева выглядели странно, однако об урожае, долю которого с радостью приняло и наше отечество, и другие страны, всегда, даже в самые отдаленные времена, будут вспоминать с благодарностью.
Кто удержит в мыслях только что сказанное и проникнется им, не сочтет ни маловероятным, ни нелепым нижеследующее приключение, которое с удовольствием освежили в памяти оба его участника за вечерней трапезой.
Среди множества письменных прошений и визитов, которыми одолевали меня в середине 1776 года, я получил письмо из Вернигероде, подписанное: Плессинг; не столько письмо, сколько целую тетрадь, самый поразительный образчик душевного самоистязания, который когда-либо попадался мне на глаза. Можно было определить по письму, что автор его — человек молодой, хорошо образованный, однако вся эта ученость не принесла ему морального удовлетворения. Почерк был разборчивый, слог гибкий и плавный, и хотя по изложению чувствовалось, что молодой человек готовился стать проповедником, все было написано свежо и искренне, так что отказать ему в участии было немыслимо. Однако, пытаясь живее проявить это участие и лучше разобраться в душевном состоянии несчастного, я вместо долготерпения обнаруживал своенравие, вместо упорства — упрямство, вместо страстного стремления — отталкивающую замкнутость. Тогда — вполне в духе времени — во мне пробудилось желание встретиться с этим человеком; однако звать его к себе я не счел нужным. В силу некоторых обстоятельств я уже взвалил на себя тяжкую обузу — нескольких юношей, которые, вместо того чтобы идти вслед за мною к высшей и более чистой культуре, упорно стояли на своем, при этом ничего хорошего не достигая, мне же они мешали продвигаться вперед. Посему я до поры до времени ничего не предпринимал, ожидая, что жизнь когда-нибудь сведет нас. Вскоре пришло второе письмо, покороче, но написанное еще живее и энергичнее; в нем автор настаивал на скорейшем ответе и объяснении, заклиная меня не отказывать ему ни в том, ни в другом.
Но и эта вторичная атака не вывела меня из равновесия, второе письмо тронуло меня ничуть не более первого, и только барственная привычка не оставлять людей моего возраста без помощи в их душевных и сердечных муках не позволила мне окончательно забыть о нем.
Веймарское общество, окружавшее достойного молодого герцога, не любило расставаний: его занятия и затеи, шутки, радости и страдания — все там было сообща. В конце ноября в окрестностях Эйзенаха устраивалась охота на кабанов, устраивалась поневоле, в силу частых жалоб населения. Я, в то время гость в этих краях, тоже должен был принять в ней участие, но я испросил дозволения позже присоединиться к обществу, дав сначала небольшой крюк.
У меня имелся давно задуманный тайный план этой поездки. Я не раз слышал, причем не только от деловых людей, но и просто от жителей Веймара, кому дорога была судьба герцогства, настоятельное пожелание, чтобы вновь была начата разработка рудников в Ильменау. Горное дело я представлял себе лишь в самых общих чертах, и от меня требовались не мнения и не заключения, а деятельное участие в этом начинании, но участвовать в нем я мог лишь при одном условии — если я увижу все собственными глазами. Мне представлялось необходимым ознакомиться с горным производством во всем объеме, хотя бы бегло, и самому постигнуть его, ибо только в этом случае я мог надеяться, что проникну в суть позитивных проблем, а заодно ознакомиться и с историей этого производства. Поэтому я уже давно задумывался о поездке в Гарц и как раз теперь ощутил в себе подлинную тягу в те места, тем более что это был сезон зимней охоты. В те времена зима обладала для меня большой привлекательностью, что же касается рудников, то в их недрах не бывало ни зимы, ни лета; кстати, сознаюсь, что желание увидать и поближе узнать моего чудаковатого корреспондента немало способствовало моему решению.
Итак, охотники отправились в одну сторону, я — в противоположную, к Эттерсбергу, и тут же стал сочинять оду под названием «Зимнее путешествие на Гарц», которая так долго оставалась загадкой среди моих небольших стихотворений. С севера шли темные снеговые тучи, среди них высоко надо мною парил ястреб. Ночевал я в Зондерсхаузене, а на следующий день так быстро дошел до Нордхаузена, что после обеда решил немедленно двинуться дальше; однако до Ильфельда, после целого ряда приключений, добрался очень поздно, несмотря на проводника и зажженный фонарь.
Постоялый двор внушительных размеров был ярко освещен, — там, очевидно, отмечался какой-то праздник. Поначалу хозяин не хотел пускать меня: эмиссары важнейших дворов, говорил он, давно занимаются здесь серьезными делами по согласованию интересов, а поскольку им это наконец удалось, то сегодня у них пир горой. Уступая уговорам и намекам проводника, убеждавшего, что со мною нельзя так поступать, хозяин согласился освободить мне маленькое помещеньице, отделенное от залы деревянной перегородкой, и свое супружеское ложе, покрытое белым покрывалом. Он провел меня через эту залу, так что я успел краем глаза увидеть всех там присутствовавших.
А дырка на месте сучка в одной из досок дала мне возможность внимательно понаблюдать за гостями и этим немного поразвлечься. Видимо, она служила и хозяину для подслушивания разговоров своих постояльцев. Я видел длинный стол, обращенный ко мне нижним концом, напомнивший мне картины «Брак в Кане Галилейской», потом я оглядел сидевших за столом гостей: председательствующие, советники, другие участники, далее — секретари, писаря, помощники писарей. Счастливое окончание тягостного дела словно уравняло присутствующих, — все болтали что бог на душу положит, пили за здоровье друг друга, острили; некоторые из гостей были явно выбраны в качестве мишеней для довольно злых шуток. Короче говоря, веселое застолье. Я мог наблюдать его спокойно, во всех его особенностях и деталях, словно рядом со мною находился хромой бес, позволивший мне непосредственно увидеть и узнать жизнь других людей. А насколько позабавила меня такая сцена после путешествия по Гарцу в кромешной тьме, по достоинству оценят любители подобных приключений. Порою все, что я видел, казалось мне призрачным, словно духи веселились предо мною в горной пещере.