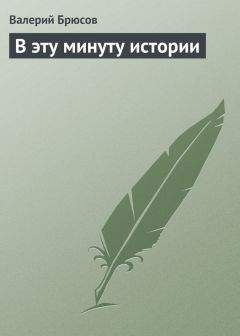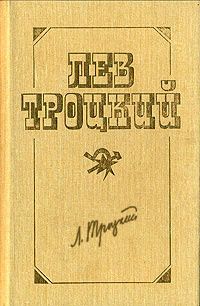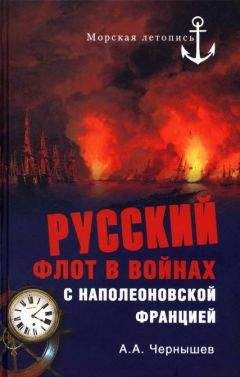Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
— Друг мой, — взволнованно сказал Грин, — то, что ты говоришь, сама поэзия.
— Роль старого монаха… — продолжал поэт. — Как прочувствованно каждое слово, как нежно и значительно дан его образ, и как мягко и любовно! А как она была сыграна! Изящный мужчина, среднего роста, с чудными глазами, не обладавший, однако, звучным голосом, передавал ее с такой нежной задушевностью, с таким искренним чувством, так правдиво подражая старости, страху одинокого патера, и притом с таким достоинством, благопристойностью и благородством, что я мог только удивляться, созерцать и переживать и почти лишился дара слова. Когда, после большой сцены, я спросил соседа, кто этот чудный артист, то узнал, к своему двойному удивлению, что это сам поэт, создавший это изумительнейшее произведение.
— А кто он такой?
— Поверишь ли, поймешь ли, Грин? Один из обыкновенных комедиантов Генслоу, служащий у него уже несколько лет за ничтожное жалованье и давший, как мне говорили, уже многое для сцены, не называя себя; имя, никогда не слыханное, одним словом, некий Шекспир.
— Шекспир? — повторил Грин.
— Да, Шекспир, — продолжал Марло; — и он без сомнения будет тем, кто положит начало и основу новой великой эры поэзии. Его имя в будущем станет привычным для языка лепечущего отрока.
— Не увлекайся, однако, — начал Грин, — в конце концов, это, пожалуй, тот актер, которым бестолковый Генслоу недавно грозил нам. Как это могло случиться, что такой гений попал к этому болвану и что он так долго мог оставаться неизвестным? Но рассказывай дальше.
— Как связаны у него между собой, — продолжал поэт с воодушевлением, — горе и радость; как низость и благородство контрастируют и в то же время образуют единство, обусловливая и объясняя друг друга; как жизненный задор, легкомыслие, высокая, божественная страсть и мудрствующий рассудок и опрометчивость — все, все, точно рукой провидения, приводится, в конце концов, в могильный склеп, где во мраке ужаса еще волшебнее мерцает огненный рубин воспламененного сердца; как, наконец, сливаются воедино смерть и примирение, высшая скорбь и забвение всей земной скорби! Пусть другой, обладающий бо́льшим даром красноречия, допытается переложить это в ясные слова, чтобы наглядно выразить многоцветное богатство мыслей, которое переполнило мою оцепеневшую душу тысячами чувств. Могу сказать только одно: я видел трагедию, я видел любовь воплощенными; к чему стремился я, тревожимый во сне грезами, то претворилось в ясную действительность.
— А когда все кончилось?
— Я был уничтожен, — сказал Марло, — даже более того, и только этот Шекспир мог бы найти подходящие слова для моего состояния; моя скорбь о том, что жизнь потрачена зря, что сам я — только тень и дым, подчеркивалась переживаемым мною блаженством и наслаждением, познанием чужого духа. Мне казалось, что и на меня падает отраженный луч этого великолепия, через признание его оно делается и моим достоянием. В этой поэме, наряду с величием, господствует такая нежная кротость, такая тихая скромность и проглядывает такая сладостная невинность, несмотря на всю распущенность, что автор ее должен быть лучшим и добрейшим из людей и в то же время скромным; да он и не может быть иным, ибо что такому благодатно одаренному духу еще остается желать на земле?
— А когда твоя лихорадка пройдет, — молвил Грин, — и мы взглянем на все трезвыми глазами, то обнаружим явление, каких в наши дни было уже немало, которым удивлялись, на которые таращили глаза, которые безгранично восхваляли и в которых потом все-таки открывали погрешности и несовершенства, если только не забывали их совершенно.
— То же самое, — возбужденно сказал Марло, — эти самые слова нашептывала и мне подлая зависть, когда я заметил общий восторг и глубокое умиление всех зрителей. Этим я хотел утешить себя и жалким образом восстановить собственную честь. Я убежал из общества, и дворецкий, исполнявший обязанность суфлера, дал мне рукопись. Наверху, в уединенной комнате, я сидел и читал всю ночь, снова и снова перечитывал и все больше восхищался, так как многое, казавшееся мне случайным или лишним, теперь, при тщательной проверке, выигрывало в значительности и необходимой полноте. Этот добрый дворецкий во время ночного досуга дал мне прочитать еще другое, не совсем оконченное автором стихотворение «Венера и Адонис». Друг, и здесь, в этом нежном рассказе, в мягкой речи и сладостном описании — в этой упоительной области, где я до сих пор не находил подобного себе, — я совершенно, совершенно разбит! О, я это чувствую, как свою жизнь: этому человеку, который больше чем смертный, я должен стать искреннейшим другом или злейшим врагом. Или я еще сумею найти дорогу рядом с ним, или я буду побежден этим Аполлоном, и пусть он тогда произнесет последнюю хвалу или поношение над моим распростертым трупом.
Тут в комнату к ним вошел Мирес[86], человек лет тридцати. Он также был на вчерашнем собрании у лорда, и речь, конечно, зашла о последней трагедии. Мирес тоже хвалил ее, хотя не в таких смелых выражениях, как пылкий, возбужденный Марло, и прибавил, что уже несколько недель тому назад познакомился с этим Шекспиром. Он хвалил его скромность и трудолюбие, а также мягкий, услужливый нрав. Вдруг, прервав свою речь, он воскликнул:
— Вот он как раз подходит к нашему дому, а с ним молодой граф Саутгемптон.
Марло бросился к окну, Грин поспешил за ним, и у обоих, точно они увидели призрак, одновременно вырвалось восклицание:
— Наш писец!
Марло сгоряча ударил себя ладонью по лбу, затем закрыл глаза руками и, пошатнувшись, упал в кресло. Грин, тоже взволнованный, но все же с большим спокойствием, наблюдал обоих прохожих. Шекспир был одет в шелк, пестро и по-праздничному; молодой приветливый граф прощался с ним, так как слуги привели его коня. Порт, отступив, почтительно поклонился.
— Не так! — воскликнул Саутгемптон, протягивая ему руку, которую порт пожал, после чего граф обнял его.
— Но не сюда же он, в конце концов, идет? — воскликнул Марло вне себя.
— Нет, — ответил Грин, — он свернул за угол; какой-то знатный человек, его знакомый, повидимому, позвал его к себе.
— Слава богу! — сказал Марло с тяжелым вздохом. — Сейчас я не мог бы вынести его вида, его разговора.
— Почему же нет? — спросил Мирес. — Он приветлив и скромен; вы не должны его презирать, дорогой Марло.
— Презирать? — сжав губы, произнес поэт. — Мне — презирать его? — Он бросился вон из зала. Мирес же стоял неподвижный, как статуя, и удивленно смотрел ему вслед, потому что видел, как крупные слезы упали из жгучих глаз побледневшего Марло.
Грин, задумчивый, с разбитым сердцем, направился в свою маленькую квартирку, к старому хозяину, который уже раньше участливо выручал его, несмотря на собственную бедность, и которому Грин, по легкомыслию, еще не заплатил того, что давно задолжал бедняге.
Грин бросился на свое убогое ложе, но не мог заснуть. Он только теперь почувствовал, чего лишился; сердце его еще так недавно проснулось со свежей силой для нового счастья и тем мучительнее сокрушалось теперь. При неожиданном свидании после долгой разлуки он убедился, как искренно был привязан к своей супруге и сколько горечи и вместе с тем сладости было в его любви к ребенку. Все это теперь он оттолкнул от себя еще грубее, чем в первый раз; презренная любовница обошлась с ним бесстыднее, чем когда-либо, и так глубоко он еще никогда не презирал себя, не поддерживаемый никаким хорошим и успокаивающим чувством. Ему внушал отвращение его душевный хаос, и сколько ни искал он во всех уголках своего существа, он не мог найти вновь того легкомыслия, которое доводило его в прежние дни, — даже в самой горькой беде, — до озорства. А тут рассказ Марло поразил его больше, чем он хотел себе признаться; сияющие видения, приятно порхавшие прежде над его мрачной жизнью, потеряли свой заимствованный блеск, и предчувствие, что его творчество и произведения — только мимолетное мерцание ночного метеора, неодухотворенное и бессодержательное, что придут лучшие поэты и изгладят самую память о нем, — грозило оправдаться.
К утру он встал, чтобы писать.
— Итак, я все-таки в последний раз возьму это ненужное перо в руки, — проговорил он про себя. — Писать стихи? — Я не в состоянии. Насколько раньше образы и мысли услужливо бежали мне навстречу, так что я часто не поспевал записывать то, что ко мне напрашивалось, настолько теперь стал для меня тусклым, вялым и бесцветным как внутренний, так и внешний мир. О, нет, умереть не страшно тому, кто действительно жил; но быть мертвым душой, когда этот труп еще движется, — это ужасно! Прочь же, воспоминания о молодости, о любви и счастье, надежде и весне! Мне больше нет дела до вас. Любовь? Ах, как может любить другое существо тот, кто не умеет любить самого себя? Разве вся моя жизнь, все мои стремления не были направлены к тому, чтобы воспитать в своей душе ненависть к самому себе? О, благо тому, кто еще может погрузиться в бездну страшных ощущений и предчувствий, кто еще находит ужас в измученной душе, кто даже в безвыходном лабиринте сердца еще борется с чудовищем отчаяния. Но как в вышине воздух и голубое небо, деревья и горы поблекли и растаяли, так и эта ночная глубина и все, что я еще называл своей душой, исчезло, и ни снаружи, ни внутри не осталось ничего, кроме голой, бесплодной, пустой плоскости. Моя жизнь ничтожнее фарса, пошлее пробуждения после опьянения, а моя смерть, как гибель мухи на стене, бесследное и бесшумное исчезновение; ни одно существо не хватится меня, даже самая чувствительная душа не будет тосковать обо мне: я стал мертвым гораздо раньше чем умер.
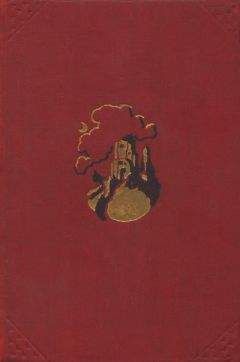
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)