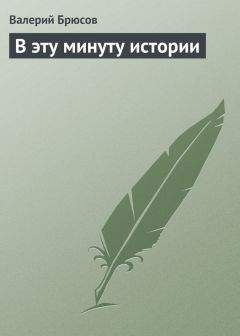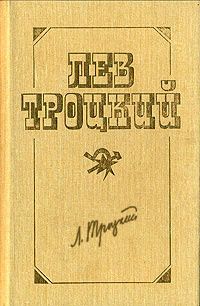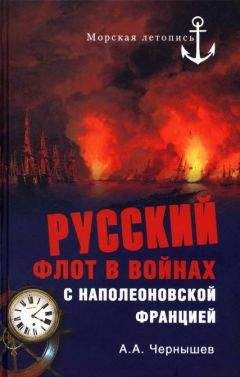Фридрих Шлегель - Немецкая романтическая повесть. Том I
— Извините его, — сказала Эмми. — Когда я слышу его милый вздор, у меня иной раз сердце разрывается.
— Дорогая, милая госпожа, — сказал эсквайр, растроганный, — лучше нам не говорить больше о Грине. Ваше великодушие и ваша любовь извиняют его. Я не могу согласиться с вами, бранить его в вашем присутствии я не смею и не хочу, а потому не будем упоминать о том, кто так бессовестно заставляет литься драгоценные слезы из ваших глаз. Вас нужно защитить, это главное. Я позабочусь, чтобы вы могли приличным образом вернуться к вашим родителям; если, помимо этого, вы захотели бы принять мою помощь, мою дружбу…
— Вы и так слишком много сделали для нас, — прервала его Эмми.
— Возьми, дитя! — воскликнул эсквайр. — Не мешайте же мне, благородная женщина! — Он дал мальчику кошелек с золотом. — Вам, верно, придется здесь еще за многое заплатить, и мало ли что понадобится до отъезда.
Не дожидаясь благодарности, он удалился; но на улице его неожиданно встретили стражники, уже разыскивавшие его, и повели в тюрьму и к допросу, так как выяснилось, что он приходится родственником Артингтону, часто виделся с ним и даже посетил Гакета на его квартире.
_____Эмми со своим мальчиком уехали, эсквайр же несколько раз был допрошен по поводу его отношений к Артингтону и Гакету. Дело последнего скоро было закончено, его казнили как изменника, и та же чернь, которая приветствовала посланных им апостолов, теперь с шумной радостью смотрела на его позорную смерть. Эсквайра, в невинности которого судьи убедились, вскоре оправдали, и ему было дозволено посетить своего кузена в тюрьме, где он нашел его в странном, совершенно непохожем на прежнее, состоянии.
Артингтон принадлежал к тем легко возбудимым характерам, которым свойственно перескакивать от одной крайности к другой. Насколько он до этого был кичлив и самоуверен, настолько теперь стал сокрушенным и смиренным. Во время допросов он не оказал судьям ни малейшего уважения, зато упал ниц перед Гакетом, чтобы молиться на него, и этот безумец снова одурманил его ложными обещаниями. Когда эсквайр теперь вошел к нему, то нашел несчастного лежащим на полу в слезах.
— Ах, кузен, дорогой кузен, — воскликнул он, — ты для меня, как солнце, восходишь в моей мрачной тюрьме! Итак, нашлось еще существо, заботящееся обо мне, несчастном, потерянном? Вот это христианин, это любовь!
— Ну, что, бедный, слабый ты человек, — сказал эсквайр, — где теперь твои безумные надежды? Позавчера казнен преступный Гакет, а вчера, с горя и вследствие полного воздержания от пищи, Коппингер умер в тюрьме, куда он и пришел уже порядком изголодавшийся. Где же теперь твой пророческий дар? Куда девался твой спаситель мира?
— Не смейся, кузен, — воскликнул безутешный Артингтон, — не упрекай меня; я все это сам себе сказал, после того как должен был присутствовать при казни безбожного Гакета. Мне и в голову не приходило, что человек может так нагло обманывать и что можно дать себя обмануть таким грубым, очевидным способом. Но я думаю, что-нибудь более тонкое как раз и не провело бы нас так ловко; и вот теперь я погиб и оказался в заблуждении, которое никогда не смогу исправить. Не правда ли, кузен, дома мне было так хорошо? Лучшего нельзя было и пожелать; и нужно же было тебе послать меня в Лондон, чтобы здесь сатана завладел моей бедной душой и затянул у меня на шее губительную петлю!
— А знаешь ли ты, — продолжал эсквайр, — что все верующие твоей секты теперь проклинают тебя и Гакета, что никто вас не хочет признавать за святых или хороших людей? До сих пор безумие пуритан еще не разражалось открытым бунтом; их ропот против церкви и правительства происходил втихомолку и не имел дальнейших последствий. Но нынче дан ужасающий пример, и не подлежит сомнению, что теперь будут приняты более строгие меры против этих сектантов. Поэтому все пуритане отрекаются от вас и вашего безумия; но если их станут больше прежнего притеснять и тревожить, они, может быть, и будут вынуждены поднять восстание; и так с этого часа, чего доброго, разрастется пагубная борьба между подданными и правителями, которая в роковые моменты ослабления власти может иметь самые тяжелые последствия. И все эти беды вызовете прежде всего ты и твои друзья своим сумасбродством.
— Милый кузен, — ответил Артингтон, — все это и гораздо худшее мне безразлично и совсем неважно с тех пор, как для меня стало ясно, что дело идет о моей шее. Я не принадлежу больше ни к какой секте, милый, драгоценный кузен! Какое дело мне до всех этих пуритан и браунистов, пресвитериан и виклефитов, и как бы они там еще ни назывались? Эти несчастные люди высиживают чужие яйца и не соображают, что змея или индюк, гусь или василиск укусят их прямо в ляжки, если выводок удастся. Нет, мой уважаемый кровный друг, с тех пор как я убедился в том, как глуп я был, и увидел, как они поступили с Гакетом и что меня ждет то же самое, — у меня от страха смерти пропали все мысли, чувства и вера во все сверхъестественное, так что мне даже безразлично, сидит ли вообще душа у меня в теле. Я забочусь только о нем и о моей шее. О кузен, хорошо тому пустославить, кто еще никогда не был повешен. И хотя это со мной тоже еще не случилось, но в лице Гакета я все сам пережил. Нет, дитя мое, я больше не пуританин, я всего лишь человек, который хотел бы как можно дольше жевать свой кусок хлеба.
— Оба твои прошения, — сказал эсквайр, — в которых ты умоляешь судей о прощении, сознаешься в своих заблуждениях, искренно рассказываешь, каким образом ты был увлечен, и выказываешь явное раскаяние, уже произвели, как мне известно, наилучшее впечатление.
— Неужели правда? — в восторге воскликнул Артингтон, вскочив и обнимая кузена. — О, будь благословенно то перо, которым я писал, и трижды благословен тот гусь, о которого взято это спасительное перо! Ах, гуси, густ, милый кузен, они и в наши дни еще спасают если не Капитолий, то хоть бедных грешников.
— Мне посчастливилось, — продолжал эсквайр, — лично говорить с главным казначеем, лордом Бурлеем.
— Не правда ли, — сказал обрадованный Артингтон, — это превосходный человек? Человек, которого королева по справедливости дарит полным доверием. О, этот снисходительный превосходный министр, наверно, поймет, что счастье и спокойствие Англии не требуют моей бедной головы.
— Мои доводы тронули его, — сказал эсквайр, — я говорил ему, — уж ты прости меня, кузен, но с политиком приходится иногда и самому быть политиком, — будто ты и всегда проявлял слабоумие, поэтому-то изменнику и удались одурманить тебя безумными обольщениями. Я доказывал, что ты достоин сожаления и что всю твою затею можно назвать скорее глупостью, чем преступлением.
— Именно так, именно так, золотой мой кузен! — воскликнул Артингтон. — Я дурак, совершеннейший простофиля, это самые подходящие слова. О, у тебя чудесный ораторский талант! Ведь ты знаешь меня и снаружи и изнутри. Я всегда был таким простаком и дурнем, что второго такого не найти; растолкуй это хорошенько господам из совета и высокоуважаемому лорду Бурлею. О, кузен, помнишь, как еще в школе я все никак не мог усвоить чтения? Еще хуже дело шло потом с латинскими авторами. В математике я ровно ничего не мог понять; в то время все называли меня толстым симплексом[83]. Припомни-ка все наши выходки, чтобы добрые господа освободили меня от этого смертельного страха.
— Они еще отсрочили твое наказание, — закончил эсквайр, — чтобы убедиться, действительно ли ты серьезно относишься к своему раскаянию и покаянию.
— Не серьезно?! — воскликнул заключенный. — Если бог мне поможет выбраться из этого застенка, поверь, кузен, я так примерно буду любить правительство, королеву и ее советников, что прямо ужас! Я думаю, что скорее улетучится у меня христианская вера и я стану сущим язычником, чем я снова пущусь в диспуты, размышления и умствования о делах религии. Какое мне дело до нашей церкви, со всеми ее епископами и церемониями? И если они вздумают натянуть стихарь на весь собор святого Павла, с креста колокольни и до самого низу, то я буду очень рад, особенно если мне придется продавать им для этого холст. Я стану самым лучшим подданным в Англии, так как чувствую в себе к этому определенную склонность. В Лондон я больше никогда в жизни не поеду, потому что для простого человека, долго прожившего в деревне, слишком много соблазнов в таком большом городе. Да, они тут сделали из меня такого апостола милосердия, что прямо жалости достойно. Иди, златоустый брат, и сейчас же доложи моим судьям все это так, как я тебе рассказал, убеди пламенным красноречием этих людей, чтобы они выкинули из головы проклятую виселицу и казнь.
Эсквайр оставил несчастного, который теперь, после своего обращения, говорил почти так же глупо, как и в своем прежнем, греховном состоянии. Он посетил всех знакомых, имевших некоторое влияние, и постарался приобрести новых, чтобы избавить несчастного от страха и освободить из тюрьмы. Повидимому, судьи полагали, что для устрашения черни достаточно наказания одного сумасброда, так что эсквайр надеялся вскоре возвестить родственнику, судьба которого еще не была решена, о его помиловании.
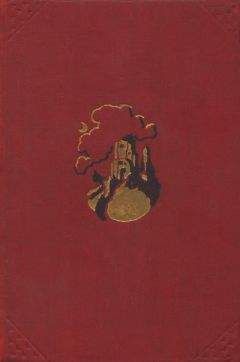
![Елена Кукина - Русская живопись первой половины XIX века. Романтизм, академизм и бидермайер [статья]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)