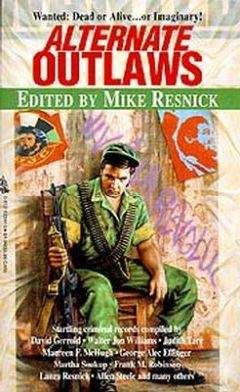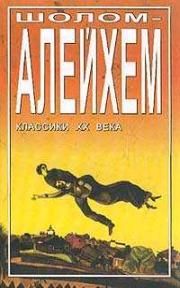Шолом-Алейхем - Республика тринадцати
Итак, в чем, собственно говоря, состоял мой проект? Мой проект заключался во мнении, что все тринадцать проектов хороши и поэтому мы должны все их принять. Но так как принять сразу все проекты невозможно, то я предложил взять из каждого по пункту, и таким образом составить винегрет из конституций.
Мой оригинальный проект приняли с восхищением, и каждый гражданин счел своим долгом пожать мне руку в благодарность за труд на благо первой еврейской республики.
Один из них (мне кажется, что это был идеалист) кинулся мне на шею и чуть было не задушил меня. Мне даже показалось, что он слегка всплакнул…
И дама подошла ко мне, спросила, долго ли я думаю над своими идеями или они приходят ко мне экспромтом. Я, конечно, ответил ей двусмысленно. То есть я сказал ей:
— Сперва я их обдумываю, рассматриваю со всех сторон, а уж только потом я высказываю их сразу, экспромтом.
Моим ответом дама, по-видимому, осталась довольна. Она наградила меня милой улыбкой, на какие способны только женщины, и мимоходом показала мне свои белые красивые зубы от лучшего дантиста в Париже (Boulevard des Italies, 165).
Еще одно было решено: винегрет из конституций перенести на бумагу и обнародовать его в виде манифеста, как водится повсюду. Кто же должен быть автором этого манифеста? Понятно — я, единственный писатель в тринадцати соединенных штатах. Времени на это дали мне три дня. Мои коллеги обошлись со мной по-человечески. Они сказали, что на меня нельзя взваливать слишком много работы. Перед расставанием мы закусили бананами и запили свежим козьим молоком. Понятно, произнесены были спичи.
Первым выступил капиталист. После него — атеист. Он заложил пальцы за свой клетчатый жилет и провел параллель между нашей конституцией и конституцией Северо-Американских Соединенных Штатов. Он закончил свой тост следующими словами:
— Леди и джентльмены! Я поднимаю свой бокал за конституцию соединенных штатов первой еврейской республики Израиля!
После него говорили еще некоторые президенты. Конечно, каждый со своей точки зрения. Каждый находил то, что ему нужно. Например, поляк моисеева вероисповедания сказал «ясновельможным президентам», что, глядя на нас, он вспоминает старый великий польский сейм с его чудесными статуями… Это не помешало националисту пить за глубокую национальную идею, которой насквозь проникнута наша конституция. Последним оратором был, конечно, пролетарий.
После него мы все поднялись, намереваясь разойтись по домам, как вдруг мне вздумалось спросить:
— На каком языке должен быть написан наш манифест?
Мой вопрос сыграл роль камня, брошенного в воду: разбежались круги, вода замутилась… И опять вспыхнули дебаты, снова поднялась буря, снова закипели споры.
Что говорилось по поводу языка, — я вам расскажу в следующей главе.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Библия рассказывает нам историю о том, как однажды люди вздумали строить башню до самого неба и как Б-г на них прогневался и в наказание смешал языки.
То же самое было и с нами. Кажется, все мы дети одного народа и могли бы иметь свой язык. Представьте себе, что тринадцать человек детей от одного отца покидают надолго отчий дом, а потом вновь съезжаются. На каком языке они должны говорить между собой? Конечно, на материнском, — конечно, на языке своей родины. Ведь не придет же им в голову нелепая мысль говорить на тринадцати языках? Ведь немыслимо же, чтобы каждый из них знал все эти языки!
Вот такая печальная мысль одолевала меня, когда я слушал дебаты по поводу манифеста.
Прежде всех выступил капиталист, один из так называемых немецких евреев. Сперва он выразил свое удивление. Как это могут люди спорить насчет языка, когда всем известно, что нашим языком был и будет чистый, старый и богатый немецкий язык. Конечно, мы должны говорить по-немецки!
Вслед за ним поднялся социалист и сказал:
— Во-первых, я сомневаюсь, знают ли все немецкий язык, а во-вторых, я убежден, что большинство нашего собрания на стороне русского языка: это как дважды два четыре.
— Пшепрашем! — Вскакивает ассимилятор. — Я протестую против языка москалей. О, если бы ясновельможные коллеги-президенты послушались меня и выбрали польский язык, язык, на котором великий Мицкевич написал своего «Пана Тадеуша»!..
— Merci beaucoup, — восклицает дама. — Кто поймет язык вашего Мицкевича? Нашим языком, по моему мнению, должен быть французский, дипломатический всемирный язык. Что может быть красивее французского языка? Всюду, во всяком обществе, французский язык в ходу. Monsieur, parlez francais, s’il vous plait! Господа! Говорите по-французски!
— Леди и джентльмены! — так начал атеист, заложив пальцы за жилет и выставив вперед одну ногу. — Я прошу у вас извинения — я займу ваше внимание статистикой. У нас в Америке мы говорим: время — деньги. Леди и джентльмены! Какой язык больше всего в ходу во всем мире? Английский! Известно, что три четверти всего человечества говорят по-английски. Среди них шестьсот миллионов в Соединенных Штатах…
— Где это вы взяли такую цифру? Как мне известно из географии, в Соединенных Штатах насчитывают…
Так отозвался один из нас (мне кажется, что это был я). Я предполагал, что американец сгорит со стыда, а он, наоборот, меня пристыдил. Он взглянул на меня сверху вниз и, не вынимая пальцев из жилета, обратился ко мне с усмешкой:
— Мистер! Извините, но я должен вам кое-что сказать. Возьмите вашу географию и бросьте ее в море. Ваша география знает столько, сколько вы, а вы — столько же, сколько ваша география. Откуда ваша география? Из Европы? Ол-райт!..
С тех пор, как Б-г сотворил мир, такого нахала еще не было. Я чуть было сквозь землю не провалился. На меня взглянули все мои коллеги, насмешливо улыбаясь. И мне осталось одно: прикусить язык и промолчать.
А американец, между тем, продолжал свою статистику, сыпал миллионами, даже не поморщившись. По его статистическим данным выходило, что на земном шаре миллиард и двести миллионов человек; среди них шестьсот говорящих по-английски в Америке, четыреста миллионов в Англии, восемьсот миллионов в Индии, в Австралии триста миллионов, а в остальной Европе двести миллионов. А в общем, говорящих по-английски вдвое больше, чем жителей земли.
Покончив со статистикой, он заложил за жилет другой палец и патетически воскликнул:
— Назовите мне какой-нибудь другой язык, на котором говорили бы такие люди, как Шекспир, Мильтон и Байрон! Леди и джентльмены! Мы, тринадцать президентов, должны признать английский язык нашим государственным и национальным языком!
— Национальным языком! — вскакивает националист, отчаянно размахивая руками. — Стыд, позор! Как это не стыдно еврею предлагать на своей территории чужой язык, когда в нашем распоряжении наш собственный святой древнееврейский? Стыдно и смешно, когда евреи восхищаются чужими Мицкевичами, Байронами, Шекспирами и забывают своих великих писателей! Где Иеремия? Где Исайя? Где Иезекииль? Я вас спрашиваю, долго ли еще мы будем рабами, восхищаясь чужим только потому, что оно чужое? Стыдно! Мы дети одного народа — почему нам не укрыться под одним флагом? Почему нам не ввести общий язык — древнееврейский? У нас должен быть один Б-г, должна быть одна религия! Одна история, одна страна!
— Heidod! — подхватил сионист, и его поддержали идеалист и ортодокс. Они втроем (с ними и дама) затянули еврейский национальный гимн:
Ойд лой овдо тиквосейну —
Еще не утеряна наша надежда.
Надежда наша старая…
Удивительное дело! Этот гимн произвел на территориалиста ужасающее впечатление. Он вскочил, потом снова уселся и еще раз вскочил, словно ужаленный, — и в конце концов, заговорил:
— Уважаемые коллеги! Совершенно правильно, что вопрос о языке является столь же серьезным, как вопрос о территории. А он у нас разрешен следующим образом: все равно какую, — лишь бы территорию. Поэтому вопрос о языке должен быть поставлен точно так же: все равно какой язык — лишь бы язык. А для того, чтобы прекратить бесконечный спор о языке, я предлагаю выработать новый язык, всемирный, на манер эсперанто или воляпюка.
— Браво! Браво!
Судя по аплодисментам, предложение территориалиста о новом эсперанто было принято с удовольствием.
Возможно, что мы в тот же день уселись бы за работу и занялись бы подыскиванием новых слов для нового языка, но мне тоже вздумалось поговорить.
Собственно говоря, в споре относительно языка мне как писателю следовало бы занять первое место. Но я вообще такой человек, что всюду и всегда люблю быть последним.
Я убежден, что и в спорах и при еде в выигрыше тот, кто последний.
— Евреи! — на этот раз я обратился к ним на идише. — Я должен сознаться, что я солидарен с последним оратором. То есть, собственно говоря, я солидарен со всеми, но с ним больше всего. Для нас нет лучшего и более подходящего языка, как эсперанто. Я хочу только сделать маленькое замечание: над нашим эсперанто или воляпюком нам не придется долго работать. Оно у нас уже имеется готовым. Это наш еврейский язык, наш народный язык — идиш.