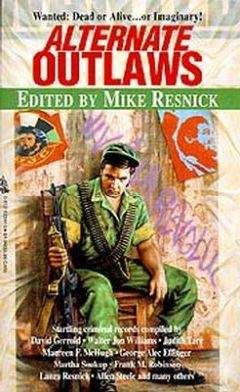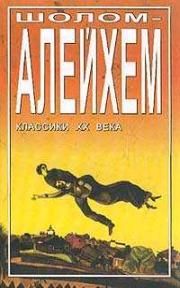Шолом-Алейхем - Республика тринадцати
— Жаргон?.. Грязный уличный язык? Диалект гетто? Воровской язык?
Такие замечания полетели со всех сторон. Но я принял их спокойно и продолжал:
— Я знал, что вы так скажете, я к этому приготовился, но это меня не трогает. Знаете, почему? Я убежден, что, выслушав меня, вы со мной согласитесь. Прежде всего давайте обсудим, что такое представляет собой воляпюк. Воляпюк — это язык, состоящий из коротких слов, не имеющий грамматики и легко усваиваемый. А в идише мало коротких слов? Одним «ну» вы можете выразить столько, сколько вы не выразите сотнями слов другого языка. А насчет грамматики… Скажите, много ли грамматических правил в идише? Найдите мне подобные вольности в другом языке! А насчет изучения его и говорить нечего! Разве его надо изучать? Это ведь смешно! Кто из нас, тринадцати, не знает идиша! И разве на всем земном шаре, попадая к евреям, вы не можете объясняться на идише? Я сам могу похвастаться… Я разъезжал немало по белу свету со своим идишем, был даже в Америке, и, слава Б-гу, всюду смеялись — значит, меня понимали. Итак, евреи, нашим языком будет воляпюк и нашим воляпюком — наш идиш, наш народный язык! Да здравствует народ! Да здравствует народный язык! Ура!
— Ура! — поддержали три четверти всего собрания.
Промолчали только капиталист и ассимилятор, а американский нахал не ограничился только молчанием: он сунул два пальца в рот и отчаянно засвистел. Но я не обратил на это внимания. Мое предложение о «еврейском воляпюке» было принято с восхищением.
Пролетарий подошел ко мне, пожал мою руку и долго-долго благодарил меня. Тотчас же началось другое препирательство: какой диалект ввести в употребление? И тут-то заварилась настоящая каша.
Прежде всех, конечно, выступил капиталист, предлагая брать как можно больше немецких слов. Понятно, тот-час же вскочил социалист, он предложил:
— Пусть каждый говорит по-своему.
Тогда поднялся ортодокс и предложил воспользоваться тем диалектом, который в ходу у них в Литве.
Эти слова не понравились ассимилятору: он вскочил как ошпаренный. Вся кровь бросилась ему в лицо. Он подбежал к ортодоксу и наградил его лестными прозвищами:
— Литвак! Лобус! Дубина! Ослиный рог!
Понятно, что все эти предложения имели своих сторонников и противников. Кое-кто защищал ортодокса, считая вполне правильными его слова о литовском идише. Другие же утверждали, что польский идиш самый красивый.
Вмешался, конечно, атеист, нахал из Америки, и сказал, что и польский идиш, и литовский никуда негодны, настоящий идиш у них — в Соединенных Штатах. Он встал в свою любимую позу и обрушился на нас:
— Что это за идиш у вас в Европе, когда в нем все шиворот-навыворот! «Леди» у вас называется женщиной, «мони» — деньгами, «китчен» — кухней, «паппер» — газетой. И это язык? Или взять, например, имена. «Джек» у вас Янкель, «Чарли» — Хаим.
Речь американца очень не понравилась собранию: не так речь сама по себе, как весь ее тон — поучительно-заносчивый. Собрание зашумело, загудело. Все заволновались, разговорились и Б-г весть, что могло бы быть в результате, но как раз произошло удивительное, почти невероятное событие, которое положило конец всем нашим дебатам и нашим тринадцати штатам.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Если бы я был на всем острове один, я бы тоже мог рассказать вам невероятные истории, как это сделал Робинзон. Но я не один и поэтому должен точно и строго держаться правды. Я убеждаюсь, что все мои двенадцать коллег читают мои описания, и попробуй я только уклониться в сторону, как они учинят мне скандал невероятный…
От имени своих вышеупомянутых коллег и от имени самого себя я должен сказать, что мы сделали огромную ошибку и за это поплатились. Нам надо было, прежде всего, исследовать остров, а мы этого не сделали; надо было пройти весь остров вдоль и поперек, а не застрять на бананах, орехах и политике.
Коль скоро нас тринадцать человек, то мы представляем собой более или менее заметную силу… А что вышло из всех наших философствований? Да, пословица недаром говорит: человек задним умом крепок…
Все эту пословицу знают и все же… Мы, тринадцать Робинзонов, чувствовали себя на острове полными хозяевами, а когда мы занялись переливанием из пустого в порожнее, то есть я хотел сказать, политикой, мы погрузились в нее по уши, забыв обо всем остальном, занявшись организацией штатов. Выработать конституцию — вот что было главным вопросом нашего существования. А погрузившись в политику, мы, как всякие политики, махнули на все рукой. Нам казалось, что весь остров принадлежит нам, что мы единственные владыки.
Впрочем, все люди таковы. Каждому человеку кажется, что только для него одного Б-г сотворил мир, что только исключительно для него земля покрывается зеленью, дрожат и переливаются звезды. И мы, тринадцать Робинзонов, замкнулись в своем маленьком мирке и не пожелали узнать, что делается за нашими плечами.
Кто из нас мог подумать, что по ту сторону горы живет огромное количество людей? Кто из нас мог подумать, что там находятся дома, великолепные дворцы и убогие хижины, роскошные сады и угрюмые тюрьмы?
Кто мог знать, что по ту сторону горы кипит и бурлит жизнь, что там живут, работают, веселятся и торгуют? Что там любят, ненавидят, целуются и воюют, рождаются и умирают, как повсюду на земном шаре.
Только один человек постоянно твердил о том, что поблизости должны быть люди. Это был пролетарий. Он не раз говорил, что из-за горы доносятся выстрелы. Конечно, мы смеялись над ним. Мало ли что может почудиться простому человеку?
Однажды он пришел к нам и заявил, что пропали несколько коз. Но… мы это выслушали и пропустили мимо ушей. Через несколько дней он пришел с другой новостью. «Что нового?» — «Козы нашлись» — «Поздравляем!» — «Не в этом дело» — «В чем же дело?»
— В том, — говорит он, — что они вернулись с красными ленточками на рогах.
— Так что же?
— Это значит, что козы были дома и что хозяева украсили их лентами.
Не знаю, что смешного было в этом, но мы покатились со смеху. Простой человек не понимает шуток!..
Однажды он пришел с новой небылицей: кто-то по ночам выпивает молоко.
— Домовой! — говорит один из нас шутя.
— Дело нечистое! — произносит другой.
И мы переглядываемся с усмешкой.
— Народ все еще суеверен… Простой человек верит во всякую чушь…
Не знаю почему, но пролетарий питал ко мне более добрые чувства, чем к другим. Он мне рассказал по секрету, что по ночам слышит шаги. Он клялся, что по утрам он находит свежие следы, что каждую ночь что-нибудь да случается: то молоко выпито, то исчезают бананы. Уже давно, говорит он, вокруг нас копошится вор, но он не может поймать его…
Сказать по правде, я тоже не доверял рассказам пролетария, а остальные даже и не прислушивались: некогда было.
Вдруг…
Мы не знаем откуда, но перед нами вырос какой-то человек, за ним еще один и еще один, и еще один… Какие-то странные люди, высокие, здоровые, с длинными бичами в руках — по-видимому, пастухи. У всех суровые лица, длинные бороды. Появились они точно из-под земли, похожие на башибузуков с лубочной картинки.
Читатель может легко себе представить наше состояние, когда мы увидали этих людей. Мы все инстинктивно обернулись и взглянули на нашего единственного защитника — на пролетария, который был вооружен всего-навсего длинной палкой и несколькими камнями. Этими камнями можно пробить голову любому разбойнику, но тогда, когда он один и не сопротивляется. Но что мы могли сделать против целой банды башибузуков, которые даже не предупредили нас о своем приходе…
Мы сделали то, что сделал Наполеон в 1812 году, увидав, в какую страну он попал… Разница лишь в том, что Наполеон не захотел этого сделать и тогда, когда его поколотили, а мы тотчас же сложили оружие и отдали в распоряжение врагов…
Первым выступил, конечно, капиталист. Он обратился к башибузукам и вежливо спросил их по-немецки, откуда они пришли и что им надо…
Если речь идет о деньгах — он может им выдать чек в любой банк Парижа, Берлина, Лондона, С.-Петербурга.
Но слова капиталиста о контрибуции были напрасны: башибузуки, видимо, ничего не смыслили в немецком языке.
Тогда на сцену появился социалист; он коротко и ясно спросил их по-русски:
— Что надо?
— Зачем вы обращаетесь к ним на таком варварском языке? — воскликнул американец-атеист и, встав в позу, обратился к башибузукам с продолжительной речью, в которой я смог уловить только два слова: «джентльмены» и «доллары».
А башибузуки стояли с открытыми ртами, переглядывались и, по-видимому, в эту минуту думали: «человек плюется, а воображает, что это он разговаривает».
Тогда наша дама заговорила по-французски. Башибузуки взглянули на нее и усмехнулись. Что означала эта усмешка — я не знаю, но что они не поняли ее французского языка — это было ясно, как Б-жий день. Они перебили ее и, указывая на коз, забормотали: