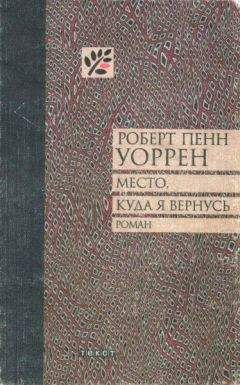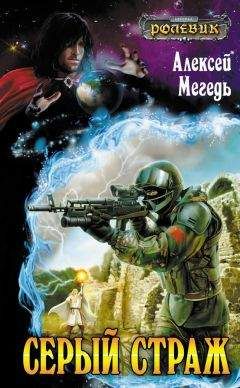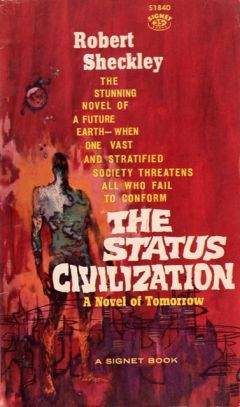Роберт Уоррен - Потоп
С излишней осторожностью, словно пристраивая неплотно набитый мешок, Бред опустился на скамью против клумбы с каннами. Надзиратель крутанул бёдрами, тоже собираясь присесть на скамью.
— Можете меня не ждать, — сказал Бред. — Я дорогу знаю.
Он снял старую панаму, подставил лицо солнцу и закрыл глаза. Минуту спустя он услышал скрип шагов по гравию — надзиратель недовольно уходил прочь. Солнце пригревало ему веки, и он видел цвет собственной крови.
Комната выходила на юг и была залита утренним апрельским солнцем, но человек стоял спиной к окну, и Бредуэлл Толливер не мог разглядеть его лица, хотя ему этого и хотелось. Изящная холка седых волос, кажется, стала ещё седее, почти белой, но ему надо было видеть лицо. Бред сидел, спрашивая себя, для чего он этого хочет: убедиться в том, как изменилось лицо, которое спустя столько лет стало просто лицом седого мальчика, или же он этого боится?
Он удержался и не потрогал своё собственное лицо. Да не к чему было его и трогать. Тут не в чем было убеждаться. Он знал, как обвисли щёки, как стянулась кожа возле рта и висков.
Он сидел и думал о том, что всякий человек — твоё зеркало, а ты — зеркало каждого из людей. Зеркало сидит против зеркала. Но зеркала эти несоизмеримы, подумал он, вспомнив, что говорил Калвин в ту ночь насчёт несоизмеримых величин. Он не сводил глаз с Калвина Фидлера.
А Калвин Фидлер сидел, улыбаясь застенчивой, смущённой, по-мальчишески трогательной улыбкой, положив на колени ладони и слегка поглаживая длинными пальцами белую парусину брюк. Бредуэллу Толливеру хотелось, чтобы он заговорил. Но сам он не знал, что сказать. Они пожали друг другу руки, сказали «привет», просто «привет» и все, и сели в молчании, которое было свидетельством того, что прошлое досконально известно им обоим, А может быть, думал Бред, это молчание — свидетельство их полнейшей неспособности понять это прошлое?
— Погляди! — вдруг воскликнул Калвин Фидлер, вскочив со стула и обведя рукой светлую комнату. — Погляди, что у меня тут есть. Держу пари, что даже в Джонсе Гопкинсе лаборатории не лучше.
— Здорово! — сказал Бред.
— Пойдём посмотрим амбулаторию, — сказал Калвин.
И провёл его по коридору в соседнюю комнату, где помещалась амбулатория, а потом они снова вернулись в ту комнату, где солнечный свет сверкал на стекле и никеле.
Они постояли немного, снова загнанные в молчание. Потом Калвин с бесцельным жестом, тут же прерванным, вернее, просто не доведённым до конца взмахом правой руки сказал:
— Надеюсь, ты понимаешь, почему я тебе всё это показываю?
— Нет.
— Потому что не могу придумать, что тебе сказать. — Он задумался. — Смешно, что после того, как я тебе написал и заставил сюда приехать, потому что мне это было невероятно важно, мне нечего тебе сказать. Может, мне и не надо было просить тебя приезжать.
— Чего там, — сказал Бред, — я бы всё равно приехал.
И он вдруг понял, что да, приехал бы.
— Зачем? — спросил Калвин.
— Поблагодарить тебя, — угрюмо улыбнулся Бред. — За то, что ты спас мне жизнь.
— В забавном мире мы живём — человек в тебя стреляет, а ты потом говоришь ему спасибо за то, что он спас тебе жизнь.
Калвин стал испытующе вглядываться в его лицо взглядом диагностика, взглядом судьи. Такого взгляда Бред у него никогда не видел.
— Но ты правда приехал бы только для этого? — по-прежнему не сводя с него глаз, спросил Калвин.
Под этим взглядом Бред съёжился, сам не понимая почему.
— Послушай, — сказал он ворчливо, — я могу только вот так ответить на твой вопрос. Давай будем объективны. Отбросим предвзятость. Эта сцена — между тобой и твоим слугой покорным — кульминационная, как выражаемся мы, сценаристы. Без неё не обойтись. Неизбежная конфронтация. Необходима для симметрии. Её требует внутренняя логика. Давай же и мы, бедные марионетки, подчинимся закону симметрии и внутренней логике, а тогда слова сами, непрошеные, придут на язык. И смысл их проявится… — Он вдруг осёкся. — Господи! — сказал он. — Я понимаю, что это не сценарное совещание. А настоящее. Ж-и-з-н-ь.
— Единственная, которая нам дана, — тихо вставил Калвин.
Бред стоял, он был подавлен. Болела нога.
— Сядь, — сказал Калвин, — не надо перетруждать ногу.
Бред сел на стул. Он следил за тем, как Калвин подошёл к столу и стал вертеть ножницы.
— Как поживает Мэгги? — внезапно спросил он, продолжая вертеть ножницы.
— Хорошо, — сказал Бред. — Они живут на каком-то греческим острове. В Эгейском море. Ну да, в пастушеской хижине и читают Софокла. Во всяком случае, Яша его читает, и ручаюсь, что в подлиннике, а Мэгги в это время одной рукой раздувает костёр из хвороста, помахивая высохшим крылом чайки, а другой мешает суп, думаю, что ложкой, искусно вырезанной из козлиного рога. Кстати, она беременна.
Человек, возившийся с ножницами, положил их на стол, поднял голову и спокойно взглянул на Бреда.
— Я рад, — сказал он.
— Но вернёмся к гениальному Яше, — продолжал Бред, — он там собирается снимать фильм. Что-то целомудренное по чувству и классическое по форме.
Он услышал, каким тоном он это сказал, и пожалел, что это сказал. Таким тоном разговаривали в определённом кругу. Он не мог припомнить, что это был за круг.
Но тем же тоном, словно себе назло, он продолжал.
— Понимаешь, пронизанный солнцем шедевр на фоне сверкающего гранатового моря.
— А что с твоим сценарием? — спросил Калвин.
— Положен на полку. Потом, когда оказалось, что я вроде оклемался и…
— …и, следовательно, меня не посадят на электрический стул за «убийство номер два, совершенное бешеной собакой Фидлером», — прервал его Калвин, не глядя на него и легонько пощёлкивая ножницами. Он замолчал, задумчиво покачивая ножницы на пальце. — Неверно, — сказал он, — это было бы номером три.
— То есть как?
— А моя мать?
— Ты что, с ума сошёл? — вскипел Бред. — Она умерла во сне. Через две недели.
Калвин круто к нему обернулся.
— Ты же знаешь, когда двадцать лет назад бешеный пёс Фидлер погубил свою первую жертву, старушка этого не перенесла. Видит Бог, ей так солоно пришлось в последние годы, когда отец стал морфинистом, а потом он умер, и оказалось, что он почти совсем разорён. Но я вернулся, и она поверила, что теперь будет не жизнь, а малина. Но разлюли-малины не получилось, и она просто спятила, да так, что не желала верить в мою вину, считая, что всё это заговор против меня и скоро меня оправдают, а виновных осудят. Вот какая каша была все эти годы в её бедной старой голове. Но знаешь что?
— Что?
— Иногда даже сумасшествие не спасает. Поэтому в прошлый раз, когда она из тёмной прихожей воочию увидела, как я стреляю — бах, бах! — она взяла и померла, как померла бы ещё двадцать лет назад, если бы не исхитрилась и не сошла с ума, чтобы сохранить «веру в единственного сына». Поэтому её смерть тоже, как ты в ту ночь удачно выразился, сбылась.
Он помолчал, разглядывая ножницы на пальце. Потом, словно спохватившись, что вёл себя бестактно, выпалил:
— Но как же твой сценарий, мы ведь говорили о твоём сценарии!
— Что говорить? Когда Яша от него отказался, его, как я уже сказал, положили на полку. Но вот вчера… — Он поймал себя на том, что его левая рука словно ищет подтверждения и украдкой шарит во внутреннем кармане пиджака, — я получил телеграмму от продюсера Морта Сибома, где говорится, что ему нравится мой сценарий, так что дело теперь двинется на всех парах.
— Я очень рад, — сказал Калвин. — Правда.
Но внимание его явно отвлеклось. Он выглянул в окно, поглядел на ясное небо. — Вода, — наконец произнёс он. — Говорят, она поднимается? — Он обернулся к Бреду. — Ты видел, она поднимается?
— Да.
— И уже высоко?
— До Ривер-стрит ещё не дошла.
Калвин Фидлер снова задумался.
— Говорят, что дом сломали, — сказал он чуть погодя. — И вот-вот спалят. Ты его видел?
— Нет, я поехал через горы прямо сюда. Но хочу туда смотаться, взглянуть в последний раз.
— Жаль, что не могу поехать с тобой, — сказал Калвин. А потом добавил: — Я мог бы почувствовать… почувствовать себя совсем свободным.
Под окнами, откуда лился солнечный свет, птица издала жалобный звук, и Калвин повернулся туда, прислушиваясь.
— Под окнами кусты. Буль-де-неж. — Он помолчал. — В сущности, кроме как за ними да за каннами, тут укрыться негде. В тюрьме не должно быть укрытий. Чтобы со стены упредить — ты же воевал, в армии так, кажется, говорят? — все возможности нападения. — Он опять помолчал. — Дрозды сюда прилетают каждый год. — Он подошёл к окну, выглянул наружу. — А может, я чувствую себя достаточно свободным, хоть и не видел, что дома больше нет, — сказал он, всё так же стоя спиной к собеседнику. — Знаешь, — продолжал он, не поворачиваясь, — как только я в тебя выстрелил, нет, вернее сказать, как только у меня в руке выстрелил револьвер, потому что, по-моему, так оно и было… — Он снова помолчал, а потом круто повернулся к Бредуэллу Толливеру. — Я хочу сказать, что как только револьвер выстрелил, я понял, что к этому, то есть к тому, что я не застрелю Яшу Джонса, всё вело с самого начала. Снова пользуюсь твоим выражением — и это тоже сбылось… — Он помолчал. — А когда всё, в конце концов, сбывается, может, тут ты и чувствуешь себя свободным. — Он помолчал, уйдя в свои мысли. — Но мне жаль, что тогда и то сбылось, — сказал он, быстро взглянув на собеседника. — Жаль, что я в тебя стрелял.