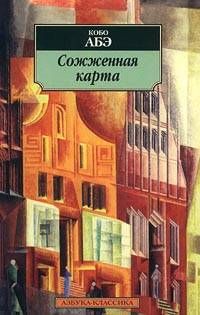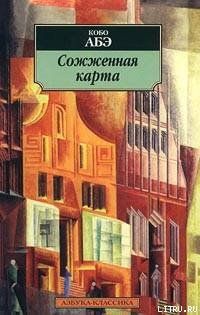Хулио Кортасар - Счастливчики
За столик к смутьянам подсел Мохнатый, Рауль жестом позвал его, едва он показался в дверях. Лицо Мохнатого осветилось счастливой улыбкой, и он поспешил к друзьям. Нелли опустила глаза так, что едва не коснулась гренок, а ее мать сделалась пунцовой. Мохнатый сел к ним спиной, между Паулой и Раулем, которых эта картина несказанно забавляла. Лопес, с крайней осторожностью жевавший бисквит, подмигнул ему незаплывшим глазом.
— По-моему, ваше семейство не в восторге, что вы присели к зачумленному столику, — сказала Паула.
— Я пью молоко там, где хочу, — сказал Атилио. — Надоели они мне, всю плешь проели.
— Действительно, — сказала Паула, передавая ему хлеб и масло. — А сейчас мы присутствуем при торжественном явлении публике сеньора Трехо и доктора Рестелли.
Надтреснутый голос дона Гало прорезал тишину, словно выскочила пробка из бутылки шампанского. Он рад, что друзьям, как видно, все-таки удалось соснуть пару часов после неслыханной ночи, когда их держали как узников взаперти. Он лично не мог сомкнуть глаз, несмотря на то, что принял двойную дозу бромурала. Но у него будет время отоспаться, после того как выявят виновных и примерно накажут нечаянных пособников этой чудовищной выходки.
— Что сейчас начнется, — пробормотала Паула. — Карлос и ты, Рауль, держите себя в руках.
— Ну и ну, — приговаривал Мохнатый, прихлебывая кофе с молоком. — Какую бодягу разводят.
Лопес с любопытством смотрел на доктора Рестелли, но тот воздерживался взглянуть ему в глаза. От столика, где сидели дамы, послышался властный окрик: «Освальдо!» — и сеньор Трехо, направлявшийся было к пустому стулу, разом вспомнил о своих обязательствах, резко переменил курс, подошел к столику смутьянов и остановился перед Атилио, который, откусив слишком большой кусок бутерброда с повидлом, трудился-пережевывал его.
— Позвольте узнать, молодой человек, по какому правы вы вздумали не пустить мою супругу в… ну, скажем, к одру усопшего?
Мохнатый наконец проглотил хлеб с видимым усилием — казалось, кадык, того гляди, выскочит.
— Мамочки родные, — сказал он. — Да им одного надо — нервы помотать.
— Что вы сказали? Повторите!
— Замнем для ясности, — сказал Мохнатый и, сложив пальцы левой руки в известную фигуру, сунул под нос сеньору Трехо. — Или хотите, чтобы я разозлился всерьез? Мало вас наказали? Зря сидели взаперти с засранцами?
— Атилио! — добродетельно увещевала Паула, в то время как Рауль еле сдерживал смех.
— Ну уж нет! Хотели — пусть слушают! — гаркнул Мохнатый так, что тарелки звякнули. — Шайка вонючек, болтуны пустые, воду в ступе толкли, а парнишка помирал, ведь помирал же! А вы — что? Хоть пальцем шевельнули? За доктором пошли? Мы пошли, чтоб вы знали! Мы, вот этот сеньор, и вон тот сеньор, которому морду разукрасили! И еще сеньор… да, тот… а после хотите, чтобы я пускал в каюту всяких…
Он замолчал — не мог продолжать от волнения. Лопес взял его за руку и пытался усадить, но Мохнатый противился. Тогда Лопес тоже поднялся и встал лицом к лицу с сеньором Трехо.
— Vox populi, vox Dei[92], — сказал он. — Идите завтракайте, сеньор. А вы, сеньор Порриньо, воздержитесь от комментариев, равно как и вы, дамы и барышни.
— Неслыханно! — возопил дон Гало, под дружный хор женских стонов и причитаний. — Давят грубой силой!
— Надо бы всех вас перестрелять до одного! — закричала сеньора Трехо, откидываясь на спинку кресла.
Услышав столь откровенно высказанное желание, публика примолкла, заподозрив, что зашли слишком далеко. Завтрак продолжался под глухое перешептывание, да иногда просверкивал гневный взгляд. Персио, который всегда опаздывал, вдруг появился у столика и подсел к Лопесу.
— Какой парадокс, — сказал Персио, наливая себе кофе. — Агнцы обернулись волками, партия мира стала партией войны.
— Поздновато, — сказал Лопес. — Теперь им бы лучше сидеть по каютам и ждать… хотелось бы знать — чего.
— Тоже не выход, — сказал Рауль, зевая. — Я вот пытался заснуть, да ничего не получилось. Лучше уж под открытым небом, на солнышке. Пошли?
— Пошли, — согласилась Паула и уже собиралась встать, но не встала. — Tiens — смотрите, кто пришел.
Сухопарый сдержанный глицид с пегим ежиком волос смотрел на них, стоя в дверях. Чайные ложечки легли на блюдца, некоторые стулья развернулись вполоборота к двери.
— Добрый день, дамы, добрый день, сеньоры.
— Добрый день, сеньор, — тихо проблеяла Нелли.
Глицид провел рукою по волосам.
— Прежде всего хочу сообщить вам, что врач только что осмотрел больного малыша и нашел, что ему гораздо лучше.
— Потрясно, — сказал Мохнатый.
— От имени капитана довожу до вашего сведения, что известные вам ограничения, вызванные соображениями безопасности, после полудня отменяются.
Никто ничего не сказал, однако жест Рауля был так красноречив, что глицид не мог не ответить на него.
— Капитан выражает сожаление по поводу того, что недоразумение стало причиной прискорбного случая, однако следует понять, что «Маджента Стар» не несет за это ответственности, тем более что, вам прекрасно известно, речь идет о в высшей степени заразном заболевании.
— Убийцы, — четко проговорил Лопес. — Да, то, что слышали: убийцы.
Глицид провел рукою по волосам.
— В подобных обстоятельствах некоторые нелепые обвинения объясняются излишними эмоциями и нервным напряжением, — сказал он и пожал плечами, давая понять, что вопрос исчерпан. — Прежде чем уйти, хотел бы предупредить вас, что, по-видимому, вам следует собрать вещи.
Под градом вопросов и криков дам глицид будто разом состарился и устал еще больше. Он сказал что-то метрдотелю и вышел, то и дело проводя рукою по волосам.
Паула посмотрела на Рауля, старательно раскуривавшего трубку.
— Какая чушь, — сказала Паула. — А я сдала свою квартиру на два месяца.
— А может, — сказал Рауль, — тебе удастся снять квартиру Медрано, если только тебя не опередят Лусио с Норой, которым, наверное, позарез нужен дом.
— Нет у тебя никакого уважения к смерти.
— И у смерти ко мне тоже уважения не будет, че.
— Пошли, — резко сказал Лопес Пауле. — Пошли посидим на солнышке, обрыдло мне все это.
— Пошли, Ямайка Джон, — сказала Паула, глядя на него искоса. Ей нравилось смотреть на него, когда он сердился. «Нет, дорогой, верха тебе не взять, — подумала она. — Так что умерь свою мужскую гордыню, поцелуи — поцелуями, а губы мои остаются при мне. Лучше постарайся понять меня, а не изменить…» И первым делом ему надо понять, что старый союз не разрушен и Рауль всегда останется для нее Раулем. Никому не купить ее свободы, никому не изменить ее, пока она сама, по собственной воле, не решит измениться.
Персио пил вторую чашку кофе и обдумывал возвращение. Улочки Чакариты проходили в его памяти. Надо будет спросить у Клаудии, законно ли не ходить на службу, если он вернется в Буэнос-Айрес раньше срока. «Тонкие юридические нюансы, — думал Персио. — А вдруг управляющий, которому я сказал, что отправляюсь в морское путешествие, встретит меня на улице…»
IА вдруг управляющий, которому я сказал, что отправляюсь в морское путешествие, встретит меня на улице… ну и что, какого черта мне беспокоиться? Какого черта? На этом он ставит ударение. Персио, отважный и отстраненный, покачиваясь, словно пробковый поплавок, посреди бескрайнего южного океана, разглядывает осадок на дне второй чашки кофе. За всю ночь ему ни разу не удалось выйти к звездам, отвлекал запах пороха, беготня, бессмысленное чтение линий на ладонях, испорченных тальком, автомобильными рулями и ручками чемоданов. Он видел, как смерть изменила курс всего в нескольких метрах от постели Хорхе, но понимает, что это — всего лишь метафора. Он знает, что его друзья разорвали порочный круг и пробрались на корму, а он не нашел того отверстия, через которое мог бы выйти на контакт с ночью, чтобы присовокупить свои усилия к сделанному ими ненадежному открытию. Единственный, кто знал что-то о корме, уже никогда не заговорит. Поднялся ли он по ступеням посвящения? Видел ли клетки с хищниками, обезьян, висевших на тросах, слышал ли первозданные голоса, нашел ли смысл сущего и умиротворение? О, ужас прародителей, о, ночь расы, слепой и клокочущий колодец, какое мрачное сокровище оберегали драконы нордических сказаний, какая изнанка поджидала там, чтобы показать умершему свое истинное лицо? Все остальное — ложь, и другие (и те, кто вернулся, и те, кто никуда не ходил) знают одинаково, одни — потому что не видели или не хотели увидеть, другие — из-за наивности или удобной подлости, к которой склоняют время и привычки. Правда, которую добыли отправившиеся на разведку, лжива, как лжива лживая болтовня трусливых и осторожных, лживы объяснения и лживы разоблачения. Истинна и бесполезна лишь яростная слава Атилио, этого ангела с грубыми веснушчатыми руками, который, еще не зная, что случилось, сразу же встает на защиту, а потому отмечен навечно, инакий в свой звездный час, пока неминуемый сговор на острове Масиель не ввергнет его в привычное и всех устраивающее неведение. И однако же там были Праматери — можно назвать их и так, можно и представить их себе мысленно, — они воздвиглись посреди пампы, на той самой земле, что губит лик ее мужчин, гнет их спины, калечит шеи, делает тусклыми глаза, и вот уже голос жадно требует жаркого из вырезки и модного танго; там были предки-прародители, эти невидимые глазу корни истории, которая, обезумев, проносится в официальных версиях событий, в сводках: двадцать-пятого-мая-утром-прохладно-и-дождливо, в действиях Линье, загадочным образом между тридцать третьей и тридцать четвертой страницей превратившегося из героя в предателя, эти глубинные корни истории, что ждут прихода первого аргентинца, жаждущего отдать себя всего, без остатка, пройти через метаморфозу и явиться на свет. И еще Персио знает, что грязный обряд совершен, что порочные предки встали между Праматерями и их далекими детьми, и их жестокое владычество в конце концов погубило образ Бога Творца, подменив его прибыльной торговлей призраками, устрашающим городом-вертепом, ненасытным требованием подношений и ублажений. Клетки с обезьянами, хищниками, глициды в форме, эфемерные отечества или просто палуба, омытая серым рассветом, — все что угодно годится, чтобы скрыть то, что, дрожа, ожидает по ту сторону. Мертвыми или живыми, но они вернулись оттуда, вернулись со смятением в глазах, и Персио снова видит, как проступают очертания гитариста, написанного с Аполлинера, и снова он видит, что у гитариста вместо лица — неясный черный квадрат, — музыка без хозяина, слепой случай без причин, судно, дрейфующее по течению, повествование, идущее к концу.