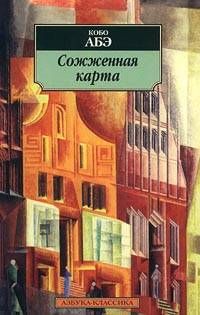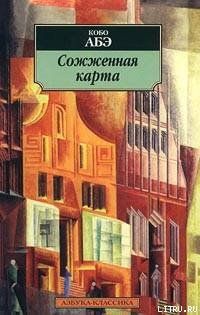Хулио Кортасар - Счастливчики
Она видела воротник штормовки, закрывавший горло; потом начала различать выступившие на шерсти черные пятна, едва заметную запекшуюся кровь в уголках губ. Все это — ради Хорхе, иначе говоря, ради нее; эта смерть — за нее и за Хорхе, эта кровь, эта штормовка, у которой кто-то поднял и расправил воротник, эти вытянутые по швам руки, эти прикрытые дорожным пледом ноги, эти растрепавшиеся волосы, этот чуть приподнятый подбородок и покатый лоб, уходящий в низкую подушку. Она не могла плакать по нему, как можно плакать по человеку, с которым едва знаком, человек симпатичный и милый и, возможно, немного влюбленный, и уж, во всяком случае, мужчина в полном смысле этого слова, коли не мог вынести унизительности положения, в котором они оказались на этом пароходе, но для нее он — никто, всего несколько часов поговорили, эдакая виртуальная близость, чисто духовная близость, его сильная и ласковая рука на ее руке, поцелуй в лобик Хорхе, полное доверие, чашка очень горячего кофе. Жизнь — слишком медленный, слишком сокровенный процесс, чтобы проявиться разом во всей своей глубине; должно было случиться много всякого или не случаться ничего, и именно это бы и было случившимся, они должны были бы постепенно находить друг друга, должны были бы расходиться и сближаться, с непременными размолвками и примирениями, и находить общее в разных жизненных поворотах, пока они с Габриэлем не стали бы друг другу необходимыми. Глядя на него с оттенком досады и упрека, она думала, что была ему нужна и что это предательство и трусость — уйти вот так и оставить ни с чем самого себя именно в тот час, когда они встретились. Она укоряла его и, склонившись над ним без страха и без жалости, отказывала ему в праве умереть прежде, чем он вошел жизнью в нее, прежде чем по-настоящему начал жить в ней. Он оставлял ей нежное радостное воспоминание, что-то вроде воспоминания о лете, отеле, оставлял едва запомнившийся образ и память о минутах, когда правда силилась пробиться наружу; оставлял ей имя женщины, которая была его женщиной, выражения, которые он любил повторять, какие-то случаи из детства, память о худой и сильной руке на ее руке, его манеру хмуро улыбаться и не задавать вопросов. Он ушел так, словно испугался, и выбрал самый изощренный из уходов, уход в непоправимую неподвижность, в лицемерное молчание. Он отказывался ждать ее дальше, заслуживать ее, преодолевать час за часом то время, что разделяло их встречу. К чему было целовать этот холодный лоб, расчесывать судорожно сжатыми пальцами спутавшиеся липкие волосы, к чему что-то ее, теплое, падало и сбегало по его лицу, уже окончательно обернутому внутрь, и более далекому, чем любой образ из прошлого. Она никогда не сможет его простить, и пока будет помнить его, всегда будет упрекать за то, что он отнял у нее возможность прожить новое время, каждый миг которого она проживала бы в самой сердцевине жизни, возродилась бы в этой жизни заново и возвратила бы потерянные годы, и жизнь сжигала бы ее и требовала бы от нее то, чего никогда не требовало ее прежнее существование. В висках стучало, точно глухо проворачивались шестеренки, и она чувствовала, что время без него уже разворачивается, чтобы снова потянуться по бесконечному пути, подобно прежнему времени, времени без Леона, времени на улице Хуана Баутисты Альберди, времени подле Хорхе, который был лишь предлогом, эдакий обман материнством, алиби, оправдывающее унылое прозябание, чтение простеньких романчиков, днем — радио, вечером — кино, бесконечные разговоры по телефону, февральские поездки в Мирамар. На всем этом можно было бы поставить точку, если бы он не лежал здесь как неопровержимое доказательство того, что ее обобрали и бросили, если бы он так глупо не дал себя убить, только чтобы не прожить с ней по-настоящему и не дать ей прожить свою жизнь. Ни он, ни она никогда уже не узнают, нужны ли они были друг другу, как две цифры не знают числа, которое составляют; из их неуверенности и сомнений могла составиться сила, способная преобразить все, наполнить их жизнь морями, дальними дорогами, неслыханными приключениями, сладким, как мед, покоем, милым вздором и потрясениями — до последнего конца, более достойного, до самой смерти, не такой жалкой. Он оставил ее до того, как состоялась встреча, и этот его уход был бесконечно более глупым и более подлым, чем его уходы от прежних возлюбленных. Что стоила обида Беттины в сравнении с ее обидой, и какие упреки могла бы высказать она, безвозвратно обобранная, коль скоро случившееся не было актом его воли, не было делом его рук. Его убили как собаку, сделав выбор за него, и положили конец его жизни, а он не имел возможности принять это или отказаться. И то, что в том не было его вины и он лежал тут перед ней мертвый, было еще худшей, самой непоправимой виной. Чуждый всему, подвластный посторонней воле, нелепая мишень для шальной пули, своим предательством он обрек ее на ад, где его отсутствие будет вечно живой болью, где сердцу и чувствам постоянно будет гибельно недоставать его, и она всем весом своей жизни рухнет в эту бездонную пустоту. Да, теперь она может плакать, но не по нему. Она будет оплакивать его бесполезную жертву, его спокойную слепую доброту, которая привела к гибели, и то, что он пытался сделать и, возможно, сделал ради спасения Хорхе, но за этим плачем, когда плач иссякнет, как иссякает, в конце концов, всякий плач, наверное, ее опять обожжет горечью его бегство, и встанет образ друга, бывшего ее другом всего два дня и не нашедшего в себе сил умереть после того, как проживет с нею целую жизнь. «Прости мне, что я говорю все это, — думала она в отчаянии, — но ты уже начинал становиться чем-то моим, уже входил в мои двери, и твой шаг я узнавала издали. А теперь пришел черед моего бегства, очень скоро я потеряю то немногое, что было во мне от твоего лица, от твоего голоса и от твоего доверия. Ты предал меня неожиданно и навечно; а я, несчастная, буду совершенствовать свое предательство день за днем, и буду терять понемногу, с каждым разом все больше, пока от тебя не останется даже бледного, как на фотографии, воспоминания, когда даже Хорхе перестанет поминать твое имя, и Леон снова, сухим листопадом, войдет ко мне в душу, и я буду плясать с призраком, и мне будет все равно».
XLIIIВ половине восьмого некоторые пассажиры, повинуясь зову гонга, поднялись в бар. Их не очень удивило, что «Малькольм» остановился; ясно было, что за безответственные ночные выходки придется расплачиваться. Дон Гало объявил это более обычного скрипучим голосом, одновременно с остервенением намазывая маслом гренки, и присутствовавшие дамы согласились, дружно вздыхая и посылая в сторону «проклятых смутьянов» взгляды, полные упрека и провидческого знания. По их адресу то и дело отпускался намек или пара глаз осуждающе вперивалась в отливавшую лиловым физиономию Лопеса, распущенные и неприбранные волосы Паулы, сонную улыбку Рауля. При известии о смерти Медрано донья Пепа упала в обморок, с сеньорой Трехо случилась истерика; сейчас они за чашкой кофе с молоком приходили в себя. Дрожа от ярости при воспоминании о часах, которые он провел пленником в баре, Лусио молча поджимал губы; сидевшая рядом Нора вроде бы входила в партию мира и вполголоса поддакивала донье Росите и Нелли, но не могла удержаться и все время, будто невзначай, поглядывала на столик, за которым сидели Лопес с Раулем, что ни говори, но все далеко не так ясно. Мэтр, всем своим видом выражая поруганную справедливость, ходил от столика к столику, принимая заказы, молча кланялся и время от времени, взглядывая на оборванные телефонные провода, вздыхал.
Никто почти не интересовался самочувствием Хорхе, жестокость одолела милосердие. Донья Пепа, Нелли и донья Росита во главе с сеньорой Трехо вознамерились с утра пораньше проникнуть в каюту покойного, дабы совершить различные обряды, на которые так падка женская некрофилия. Атилио, уже выдержавший яростное сражение с семейством, догадался об их намерении и решительно встал на защиту двери. На резкое требование сеньоры Трехо пропустить их, дабы они могли исполнить христианский долг, он ответил фразой: «Идите в баню», смысл которой не оставлял сомнений. А на жест сеньоры Трехо, как бы собиравшейся дать ему пощечину, он ответил своим жестом, таким выразительным, что достойная сеньора, уязвленная в самое святое, отпрянула, лицо ее пошло красными пятнами, и она закричала, призывая супруга. Но поскольку сеньор Трехо куда-то запропастился, дамы ретировались, Нелли — заливаясь слезами, донья Пепа и донья Росита — в ужасе от поведения своего сына и будущего зятя, а сеньора Трехо — полыхая крапивницей на нервной почве. Завтрак выглядел напряженным перемирием, пассажиры искоса наблюдали друг за другом, все время неприятно ощущая, что «Малькольм» встал посреди моря, иначе говоря, плавание прервалось, что-то должно произойти, и хорошо бы знать, что именно.