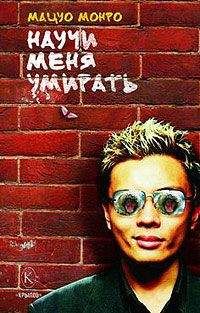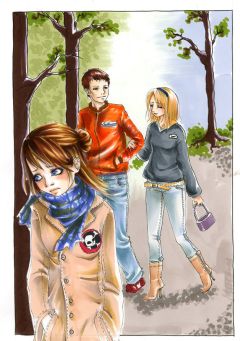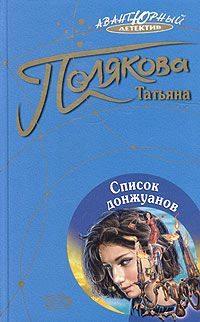Герман Банг - Тине
— Ладно, ладно, ну ладно же, — Тине еле-еле остановила поток благодарностей из уст Ане. Ане уходила после всех с ведром и целой связкой колбас.
Когда они вернулись в пивоварню, оказалось, что Софи удобно сидит под лампой, как раз на месте фру Берг.
— Да, да, я и сама слышала, я и сама слышала, — твердила она и вытягивала шею над миской с кровяным фаршем, чтобы послушать еще раз.
Одна из служанок рассказывала о мнимой смерти дочери Ларса Эриксена, как та вдруг села в гробу прямо в саване.
Когда Тине собралась домой, лесничий вызвался ее проводить, но она ушла одна, на дворе было полнолуние и светло, как днем.
И вот что удивительно: когда она по холодку бежала домой, ей вспомнились обрывки старых Берговых писем; она могла бы повторить их наизусть, слово в слово.
Приближалось рождество. В последние дни Тине снова пришла на выручку фру Берг. Та никак не могла управиться с рождественскими подарками, еще и в самый праздник повсюду валялись незаконченные вышивки.
— Эка беда, — говорила фру Берг. — Дошьем после праздников.
Но Тине перетаскивала часть подарков к себе и вышивала по ночам, при свече, выложив канву поверх одеяла. Пальцы у нее коченели — такой стоял холод.
Рождество наступило. В сочельник Тине вечером пошла к Бергам. Фру Берг сидела у окна и пыталась читать при последних отблесках дневного света.
— Любовь, любовь, только и разговору что о любви, — сказала она, захлопывая книгу. Потом уютно устроилась рядом с Тине возле изразцовой печки.
— Верно, — согласилась Тине и задумчиво поглядела в огонь. — Но что такое любовь?
Фру Берг громко расхохоталась, до того глубокомысленный вид был у Тине. Потом она вдруг оборвала смех и сказала, глядя, как и Тине, в огонь:
— По-моему, это когда два человека вместе и когда они счастливы, — последнее было сказано уже не таким решительным тоном, и обе надолго замолкли, глядя в огонь, а потом отправились зажигать елку.
Лесничий, фру Берг, Тине сидели и болтали о всякой всячине, пока не догорела на елке последняя свеча: болтали о рождественских праздниках и о новогодних пирах — после Нового года такое начинается веселье, выездных лошадей просто не успевают развести по стойлам.
Фру Берг завела псалом, они вполголоса допели его до конца, фру Берг и Тине, — псалом о «Трех волхвах», допели, не сводя глаз с елки.
Херлуф сидел тихо на коленях у отца и глядел на свечи.
— Папа, рождество уже кончилось? — вдруг воскликнул он, когда оставались гореть только последние свечки, которые ему надлежало задуть. Но Софи должна была увидеть это своими глазами и прочая прислуга тоже. Херлуф бегал по дому и собирал всех домашних — вплоть до Ханса-хусмена. Все говорили «добрый вечер» и в синих носках толпились у дверей.
Огни на елке почти все погасли, комната тонула в полумраке, горело только шесть-семь свечек. Берг поднял Херлуфа, и тот задул их: «Ф-ф-ф — вот и конец рождеству…»
— Ф-ф-ф-ф — вот и конец рождеству, — приговаривал Херлуф с такой гордостью, будто собственной властью с каждой погашенной свечой изгонял праздник из дома; остальные внимательно следили за его действиями.
— Последнюю! — воскликнула фру Берг. — Последнюю!
Погасла и последняя свеча, стало совсем темно, лесничий осторожно поставил сына на пол.
Фру Берг взяла мужа под руку, и в полном молчании все вышли из комнаты.
Поужинали при лампе сухариками с вареньем, и Тине заторопилась домой. Фру Берг не прочь была прогуляться по такой отличной погоде, и они вышли втроем. Подморозило, все дороги покрыл снег.
Вдоль больших канав мальчишки накатали ледяные дорожки. Фру Берг и Тине решили прокатиться. Тине первая. Фру Берг упала и засмеялась, а Тине тронулась с места так широко и уверенно, как фрегат по воде.
И опять они шли молча, а снег скрипел под ногами. Издалека доносились звуки скрипки и флейты.
— У Ларса Андерса танцы, — сказала Тине.
На площади было светло, снег покрыл ограды и церковную крышу. В трактире и в школе было совсем тихо. Ни огонька, ни звука.
— Да, — промолвил Берг. — Вот рождество и кончилось.
Они остановились и постояли молча перед замерзшим прудом.
— Да, — сказала и фру Берг, и голос у нее дрогнул. — Но ведь здесь всегда хоть немножко да похоже на рождество, верно, Хенрик?
— Да, — шепнула Тине. — Здесь так красиво.
И все трое, борясь с волнением, поглядели на белые поля под высоким звездным небом.
Так прошло последнее рождество.
Тине уткнулась щекой в подушку и начала всхлипывать. Долго плакала она и все не могла уняться.
Тяжелый экипаж выехал из-за угла. Тине прислушалась. Конечно, это торговец. Значит, скоро рассвет.
С этими мыслями она наконец погрузилась в сон.
II
У однорукого барона были гости. Они начали собираться рано, сразу после полудня, — в дни, когда решалась судьба оборонительного вала Данневирке, люди старались держаться вместе, — и отобедали на веранде. Теперь все сидели за пуншем в гостиной, где воздух стал сизым от дыма трубок.
Под окнами стояли открытые ломберные столы, но никто к ним не приблизился, если не считать доктора Фангеля и землемера, да и те задремали, не начав игры, потому что никак не могли залучить к себе третьего партнера. Больше ни один не соблазнился картами, люди ходили, ходили взад и вперед, собирались по углам в группки и говорили, говорили без умолку о Буструпе, об укреплениях, о Мисуне и о минувшей войне.
Все голоса заглушал голос капеллана Гро: тот стоял перед Степом из Гаммельгора, едва доставая своему собеседнику до пояса. — Он говорил о битве под Истедом и о дорогом короле, под которым подразумевался покойный Фредерик Седьмой. Излив на слушателя бурный поток слов и попутно усеяв брызгами слюны его жилет, капеллан вынес своего рода резюме:
— Да, тут одержали победу датские сердца.
Капеллан умолк, и улыбка великой веры озарила его лицо. Был он грундтвигианцем, а когда говорил, квакал, как лягушка.
В углу у книжного шкафа слушатели обступили почтмейстера из Аугустенборга — почтмейстер рассказывал о битве при Фредерисии — он был тогда в деле — прорыв к окопам противника, вражеские укрепления в огне, штыковая атака под радостный бой барабанов. Когда враг засыпал их ядрами, они велели полковым музыкантам играть погромче, а перейдя в наступление, и сами запели.
Они тогда вырядились жнецами и заманили пруссаков на ржаное поле.
Разговор у шкафа стал всеобщим, перепархивал от Фредерисии к Истеду, от Истеда к Бову, от одной победы к другой.
Стен из Гаммельгора тоже был тогда в деле, он сражался под началом Хельгесена.
— Да, настоящий был сорвиголова, — сказал Стен, — а уж дрался, что твой атаман.
Разговор продолжался, вспомнили слова Рюе: «Захватить — и вперед»; вспомнили Шлеппегрелля и де Меца, менявшего перчатки под градом пуль. Каждый зычным голосом рассказывал про свое — каждый, кроме камергера, пробста и самого барона, те стояли посреди комнаты и говорили о правительстве, которое, — а как же иначе? — сознает свою ответственность.
Если не считать этой беседы, кругом разливалась победная песня о нанизанных на штыки пруссаках; война фанфарами гремела в комнате под аккомпанемент соленых шуток и бодрых кликов. Наконец Фредерик Клинт, студент, гостивший здесь и не могущий принять участие в кампании из-за пальца, отстреленного по нечаянности в стрелковом ферейне, схватил свой бокал и воскликнул, разгоряченный пуншем и войной:
— Пусть они сунутся сюда, мы приготовим им хорошую встречу.
Тост подхватили, у всех загорелись глаза, внезапно они хором затянули песню о храбром датском солдате, затянули громкими, высокими голосами, все, кроме пробста, который беспокойно сновал по комнате, словно у себя в ризнице в дни больших праздников, да камергера, который молча стоял, поблескивая белым пластроном рубашки, и чему-то улыбался.
Старый Фангель при звуках песни очнулся от дремоты. «Во имя божье», — сказал он. Этой фразой он всегда начинал любое дело, после того как малость вздремнет. Затем он подхватил напев, а певцы забирали все вверх и вверх (студент даже на стул залез) и каждый раз при слове «немцы» возвышали голос до такого крика, будто тут же ударом кулака валили на землю парочку-другую супостатов.
Пришла Софи с обвязанной головой, принесла газеты и почту, певцы, словно по команде, смолкли.
— Наконец-то! — воскликнул пробст, задохнувшись от волнения, и выхватил газету у нее из рук. Уже много часов они дожидались почты.
— Явилась, слава тебе, господи, — вскричал барон, судорожно отыскивая в стопке свою газету.
— Летать-то по такой гололедице не полетишь, дай бог ползком добраться, коли не хочешь переломать ноги, — обидчиво возразила Софи.
— Мы им покажем! Уж мы-то им покажем! — вскричал Клинт, воинственно сжимая в кулаки все свои девять пальцев.