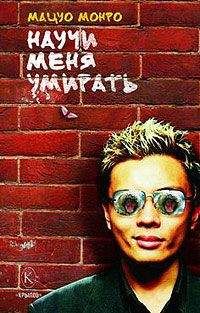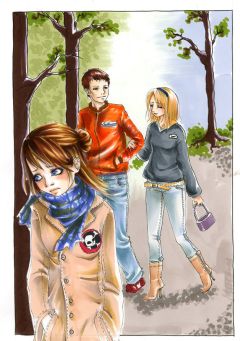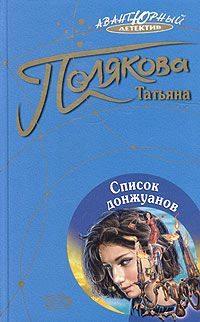Герман Банг - Тине
— Здесь шла речь о вождях, — скорей выкрикнул, чем проговорил, он, — и вожди действительно вели за собой старшее поколение, но нас, молодых, тех, кому теперь предстоит драться, нас-то вели другие: наши поэты подарили нам видение мира и возвестили новые времена… Тот, кто своей песней призвал народы Севера к единению, кто привел нордическую молодежь к славному содружеству, — вот чьи идеи привели нас к этому дню! И не вздумайте говорить, — студент нетерпеливо рассек рукой воздух, — будто эти идеи не сбылись… Они еще могут претвориться в действительность… Но, государи мои, пусть даже это были не более как иллюзии, все равно они вскормили нас, стали хлебом нашим насущным…
И если воины… — он наполовину повернулся лицом к саду, и кучера, не разбиравшие слов, но слышавшие раскаты молодого голоса и видевшие сияние на его лице, подтянулись к подоконникам, восторженно глядя на говорящего, — бдят денно и нощно за датским оборонительным валом, пронзая грозным взглядом ночную тьму, где притаился супостат… то именно он и его единомышленники взлелеяли надежду этих людей и привели их туда; он наша ответственность и наша честь… многая лета ему и иже с ним.
Дальше Клинт не мог говорить, последние слова застряли у него в горле, но будто самое имя поэта стало выражением всеобщих чаяний и всеобщих надежд, его повторяли снова и снова, в гостиной и во дворе, сопровождая криками «ура», и крики отдавались от стен и разносились над лугами и лесами.
Из кучеров ни один не слышал шагов, и едва ли кто обернулся, чтобы взглянуть на Бэллинга, который промчался мимо них с непокрытой головой и еще со двора начал звать дочь:
— Тине! Где Тине? Где Тине?
С тем же пронзительным криком он взбежал по лестнице:
— Тине! Тине! Где Тине?
В сенях он без сил опустился на ступеньку, но ничего не сказал и только покачал головой. Лицо у него было землисто-серое.
— Господи Иисусе, что-то случилось! У Бэллингов что-то случилось! Ах, господи Иисусе, что же у них случилось? — И Софи заметалась вокруг старика, размахивая снятым от возбуждения головным платком.
— Отец, отец! — Тине прибежала со свечой и наклонилась к нему. — Отец! — еще раз в испуге окликнула она. — Что-нибудь с мамой?
Бэллинг сперва не ответил, потом притянул к себе голову дочери, что-то шепнул ей на ухо, и Тине, побелев, как и он, бессильно прислонилась к стене, воздела руки и снова их уронила.
Бэллинг все еще не мог говорить и подняться тоже не мог, оп только указывал пальцем па дверь гостиной.
Тогда Тине пошла, и распахнула дверь, и опустилась на стул возле книжного шкафа: ноги не держали ее.
Пробст и Клинт стояли в центре круга.
Что, кареты поданы? — спросил у нее пробст. — И Тине ответила, — сама не ведая как, — и слова ее были беззвучны и мертвы.
— Говорят, говорят… что мы отошли от Данневирке…
— Что вы сказали? Что вы сказали? — завопил пробст. Тине видела над собой его склоненное мертвенно-бледное лицо, но ответить не могла, указала только на отца, сидевшего без сил на ступеньке, возле забытой свечи.
— Вы что сказали? — продолжал кричать пробст, хватая Бэллинга за плечи, — Вы, верно, рехнулись? Вы, верно, рехнулись? — и сам весь затрясся, едва устояв на ногах. — Объясните же толком, что вы сказали.
Но причетник его не слышал, он лепетал два слова раз за разом, как после апоплексического удара или как слабоумный…
— Они оставили, они оставили, — лепетал он, тщетно пытаясь поднять руку, в которой была зажата бумага — телеграмма; пробст взял ее, и прочел, и уронил, а сам остался стоять, словно окаменев на глазах у выбежавших из комнаты людей.
Потом он вернулся в комнату. Стен поддерживал его. Все уже знали, что случилось, но никто не проронил ни слова. Так продолжалось с полминуты, не меньше. Потом арендатор из Воллерупа вскочил, дрожа как осиновый лист, ударил по стене стиснутыми кулаками и зарыдал, словно безумный.
Тут со всех сторон послышались рыдания бледных, ожесточенных и бессильных людей, и почтмейстер из Аугустенбурга метался по комнате, возбужденно приговаривая: «Не может быть — не может быть — армия — армия», — и опять одно и то же слово: «армия» — и яростно жестикулировал кривыми пальцами.
За дверью плакали горничные и кучера, которые потом молча вернулись к оставленным во дворе экипажам.
Стен, сидевший напротив капеллана, положил руки на его плечи и горестно поглядел маленькому человечку в лицо.
— Позор, какой позор, — сказал он и уронил голову на стол, словно не мог больше держать ее.
Тут пробста вдруг что-то толкнуло, он поднялся и изрек:
— Этой ночью была предана Дания, — после чего снова опустился на место.
Казалось, он облек в словесную форму общее отчаяние и стыд, дал исток бессильному горю, поднял бурю выкриков; звучали исступленные вопли, пылали лица, слово было найдено: предательство. Клинт внезапно выскочил из своего угла вне себя от ярости, со стоном замахнулся искалеченной рукой и, как ядро, метнул свой бокал над самой головой его преподобия в портрет короля Христиана, вдребезги разбив стекло.
Па мгновение стало тихо, и в этой тишине раздавался только звон осколков, да портрет сорвался с гвоздя; от удара качнулись датские флаги над портретом покойного короля и попадали на диван вместе с иммортелями, но мгновение спустя снова поднялся шум, все опять принялись поносить генералов: Шееля, Плессена, Блуме, Бликсена-Финека, всех без разбора, а пробст, тем временем несколько успокоившийся, сказал, опершись о стол одной рукой и эффектно взмахивая другой:
— Народ еще потребует их к ответу, будет и на нашей улице праздник.
Никто не слышал, как отворилась дверь, но все узнали голос вошедшего и застыли, растерянные, словно пробудились внезапно ото сна.
— А, здесь, оказывается, гости! — Это был епископ, изящный, маленький, с желтоватой кожей и белой бородой; какое-то мгновение ой разглядывал стол, бокалы, опрокинутые стулья, добавил: — И немало гостей! — после него посмотрел как бы сквозь пробста, который окаменел у стола в позе государственного мужа.
Все словно оцепенели посреди поля брани, капеллан хотел было, тихонько обогнув стол, подойти к портрету короля, но оставил свое намерение: все равно его преосвященство все видел.
— А, и вы тут, господин камергер! — только и выговорил епископ, поворачиваясь.
Камергер как-то особенно лихо сделал полный оборот на своих стройных ногах, коим был, собственно говоря, и обязан высоким званием. «Луиза хочет видеть при дворе ноги, на которых хорошо сидят брюки», — изрек покойный король при даровании титула, и эта непритязательная шутка часто повторялась в кругах, близких ко двору, — даже епископ и тот удостоил взглядом подвижные ноги камергера.
Затем уже другим тоном, мягким и снисходительным, сказал:
— Да, господа, всем нам предстоит немало сделать и того больше пережить.
Он снова умолк.
— Я, собственно, хотел побеседовать только с бароном, — заговорил епископ далее. — Скоро следует ждать войска. — На слове «войска» голос его дрогнул, и он сказал:- Но сперва проводите ваших гостей.
Гости вышли, зашумели в прихожей, разбирая шубы, захлопала на ветру дверь, во дворе не было света, — фонари погасли, — и гости заскользили к своим экипажам по гладкой, как зеркало, земле. Слышны были крики кучеров, а Стен опять разрыдался, прислонясь к боку одной из своих гнедых.
Первые уже уселись и шагом поехали со двора под фырканье лошадей; остальные последовали за ними вниз по аллее, навстречу ветру, в кромешной тьме, трудно и медленно.
Тине сидела на кухне, возле печки, ей удалось затащить сюда и отца.
— Папочка, ну папочка же, — говорила она и гладила и гладила отца, а старый Бэллинг сидел, будто неживой, потом привалился к печке и заплакал. Так они сидели рядышком долго, безмолвно.
Наконец Тине опустила руки, которыми подпирала голову, и, словно разбуженная внезапной тишиной, сказала:
— Значит, лесничий вернется домой.
Она продолжала сидеть возле отца и глядела прямо перед собой огромными глазами.
Фангель последним надел свою шубу; он никак не мог попасть в рукава. Выйдя из дому, он обо что-то споткнулся на ступеньках крыльца, — там, сгорбившись, сидел капеллан.
— Господи боже, — выкликнул доктор, — вы же до смерти замерзнете, сидючи здесь. Встаньте, ну, встаньте же. — И Фангель начал трясти капеллана.
Но маленький человечек, казалось, не заметил даже, что его трясут. Оборотя к Фангелю свое крохотное, измученное личико, он только спрашивал:
— Что же господь бог уготовил Дании? Что же будет с Данией?
И старый Фангель почувствовал, как глаза у него тоже наполняются слезами, когда, приведя в чувство капеллана, он направился к своему возку.
Епископ остался один. Долго стоял он, обводя взглядом разоренную комнату, и ветер трепал гардины, а на столе в беспорядке теснились бокалы, чаша из-под пунша, трубки, — словно после веселой пирушки студентов-первогодков. Газета «Бладет» упала со стола, и сквозняк перебирал ее листы. Епископ поднял ее, пробежал глазами несколько строк, лицо старого «реакционера» исказилось то ли болью, то ли презрением, он сложил газету в длину — раз, потом еще раз, словно хотел свернуть ее в трубку, и, сложив, уронил на стол между пустых бокалов.