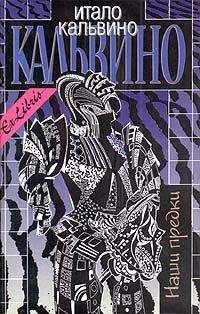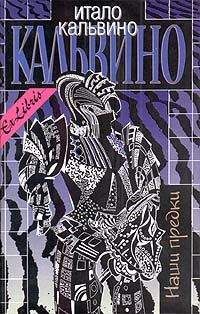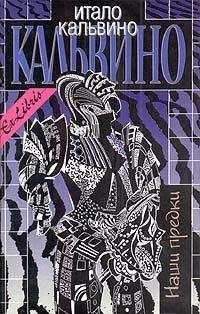Итало Кальвино - Наши предки
Агилульф и Рамбальд – мечами, Гурдулу – лопатой прогоняют темноперых гостей, и те разлетаются прочь. Потом все трое берутся за свою печальную работу: каждый выбирает себе убитого и за ноги волочит его вверх по склону, к месту, предназначенному для могилы.
Агилульф тянет труп и думает: «О мертвец, у тебя есть то, чего у меня не было и не будет: остов и мясо. Вернее, не у тебя есть, а ты есть остов и мясо – то самое, в чем я порой завидую существующим: в минуты уныния я ловил себя на этом. Есть чему завидовать! Да, я вправе считать себя обладателем особой привилегии, если могу без этого обходиться и делать все, что и они. Само собой разумеется – все, что считаю важным, и многие вещи мне удаются лучше, чем существующим, ибо мне не присущи их обычные изъяны: грубость, неточность, непоследовательность, вонь. Правда, тот, кто существует, вкладывает во все деяния нечто свое, придает им особый отпечаток, а мне этого ни за что не добиться. Но если весь их секрет здесь, в этом мешке с потрохами, то спасибо, обойдусь и так. И долина, полная голых разлагающихся тел, не вызывает у меня содрогания, как и резня, учиняемая над живыми человеческими существами».
Гурдулу тянет труп и думает: «Ветры, что ты пускаешь, труп, будут повонючее моих. Не знаю, почему тебя все оплакивают. Чего тебе не хватает? Раньше ты сам двигался, теперь твое движение перейдет к червям, которым ты идешь на корм. У тебя росли ногти и волосы, а теперь ты растечешься жидкостью, от которой выше подымутся под солнцем яровые травы. Ты станешь травой, после – молоком коров, что съедят траву, кровью младенца, что выпьет молоко, и так далее. Видишь, твоя жизнь не такая никчемная, как моя, труп!»
Рамбальд тянет труп и думает: «О мертвец, я бегу, бегу – а прибегу туда же, куда ты, и меня вот так же потащат за пятки. Эта погоняющая меня страсть, эта жажда сражаться и любить – что же они такое, если взглянуть на них твоими выпученными глазами, из твоей запрокинутой головы, что колотится о камни? Я думаю, мертвец, ты заставляешь меня думать, но что это меняет? Ничего. Кроме дней, оставшихся до могилы, ничего нет ни у нас, живых, ни у вас, мертвецов. И они даны мне, чтобы я не растратил их, не пустил прахом ни крупицы из того, что я есть и чем могу стать. Чтобы я совершил славные подвиги в войне франков. Чтобы обнимал гордую Брадаманту, лежа в ее объятиях. Надеюсь, ты употребил свои дни не хуже, о мертвец! Как бы то ни было, твоя карта уже вышла. Моя еще лежит в колоде. И мне по душе, мертвец, мои заботы, а не твой покой».
Распевая, Гурдулу приготовляется копать яму для мертвеца. Распластывает его по земле, чтобы снять мерку, намечает мотыгой длину могилы, отодвигает труп и принимается копать с великим рвением.
– Мертвец, тебе, наверно, скучно ждать. – Гурдулу поворачивает тело на бок, лицом к яме, чтобы гробокопатель был перед остекленевшими глазами. – Мертвец, ты бы тоже мог раз-другой ударить мотыгой. – Он ставит тело на ноги, пытается всунуть ему в руки мотыгу. Мертвец валится. – Ну ладно. Не выходит у тебя. Тогда так: выкопать я выкопаю, а яму засыплешь ты.
Яма готова, но, так как Гурдулу орудовал мотыгой весьма беспорядочно, она напоминает чашу, только неправильных очертаний. Теперь Гурдулу хочет ее опробовать. Он спускается и ложится.
Ох, как здесь здорово, как здесь хорошо отдыхать! А земля-то мягкая как пух! И с боку на бок удобно вертеться! Мертвец, спускайся скорей, посмотри, какую я тебе выкопал яму! – Но тут же спохватывается: – Хотя раз мы договорились, что ты должен засыпать могилу, так лучше я останусь внизу, а ты сбрасывай на меня землю лопатой. – Он на миг замолкает. – Эй! Давай! Поживее! Чего же ты ждешь? Гляди, как надо! – Лежа на дне, он поднимает мотыгу и начинает сгребать сверху землю. Наконец на него обрушивается вся куча.
Агилульф и Рамбальд услышали приглушенный рев и не могли сразу понять – от страха ли орет Гурдулу или от удовольствия, что его так хорошо похоронили. Они подоспели как раз вовремя: еще чуть-чуть – и покрытый землей оруженосец задохнулся бы до смерти.
Рыцарь нашел, что Гурдулу потрудился из рук вон плохо, да и Рамбальдовой работой остался недоволен. Зато сам он разметил целое кладбище, очертив четырехугольные ямы, вытянувшиеся ровными рядами по обе стороны от среднего прохода.
Возвращаясь под вечер, они шли лесной поляной, где лесорубы франкского войска запасали дрова для костров и бревна для осадных машин.
– А теперь, Гурдулу, наруби дров.
Но Гурдулу ударял топором куда попало и клал в связки сухой хворост вместе с зелеными ветками, папоротниками, лозами ивы, годными только на корзины, и кусками обомшелой коры.
Рыцарь инспектировал работу лесорубов, проверяя орудия и штабеля, а заодно объяснял Рамбальду, что вменяется в обязанность паладину в связи с дровозаготовками. Рамбальд не слушал его: все время у него просился на язык один вопрос, и вот проходка с Агилульфом кончалась, а вопрос этот еще не был задан.
– Рыцарь Агилульф, – перебил он.
– Чего тебе? – спросил Агилульф, орудуя то одним, то другим топором.
Молодой человек не знал, как начать, не мог выдумать предлога, чтоб исподволь подойти к единственному волновавшему его душу предмету. Поэтому он, покраснев, спросил:
– Вы знакомы с Брадамантой?
При этом имени Гурдулу, который подходил к ним, прижимая к груди одну из своих смешанных вязанок, вдруг подскочил. В воздухе замелькали сучья, зеленые папоротники, можжевеловые ягоды, листья бирючины.
В руках у Агилульфа был необычайной остроты топор. Он взмахнул им, разбежался и ударил по дубовому стволу. Лезвие прошло сквозь него из конца в конец, начисто срубив дерево, которое, однако, осталось стоять на пне, до того точен был удар.
– Что случилось, рыцарь Агилульф?! – вскричал Рамбальд. – Что это на вас нашло?
Агилульф, скрестив руки, внимательно осматривал круглый ствол.
– Видишь? – сказал он молодому человеку. – Совершенно точный удар, без малейшего отклонения. Посмотри, какой гладкий срез.
VI
Писать повесть, за которую я взялась, гораздо труднее, чем я думала. Теперь пришел черед изобразить самое большое сумасбродство рода человеческого – любовную страсть, от чего до сих пор меня удерживали мое монашество, затворничество и природная стыдливость. Не могу сказать, что я не слыхала даже разговоров о ней: напротив того, в монастыре, чтобы оберечь нас от искушений, иногда начинают о них беседовать – разумеется, в тех узких рамках, в каких мы способны говорить об этом предмете, имея о нем столь смутное представление; это бывает всякий раз, когда одна из бедных монахинь по неопытности оказывается беременной или, похищенная каким-нибудь знатным насильником, которому неведом страх Божий, потом возвращается и рассказывает, что над ней учинили. Так что о любви, как и о войне, я изложу попросту все, что мне удастся вообразить: искусство писать повести в том и состоит, чтобы из немногого понятого нами в жизни извлечь все остальное. Но когда, закончив страницу, снова начинаешь жить, то замечаешь, что знала ты всего ничего.
А Брадаманта – разве она знала больше? Чем дольше вела она жизнь воительницы-амазонки, тем глубже неудовлетворенность закрадывалась ей в душу. Она избрала для себя жизнь рыцаря из любви ко всему строгому, точному, неукоснительно согласному с нравственным законом и требующему – в том, что касалось владения оружием и верховой езды, – крайней отточенности движений. И что же она видела вокруг? Потных мужиков, которые воевали небрежно, как придется, а едва освободившись от службы, садились за выпивку или же слонялись за ней по пятам, гадая, кого из них она решит взять к себе в шатер нынешним вечером. Ведь всем известно: рыцарство – великое дело, но рыцари – долдоны, привыкшие, правда, совершать подвиги, но без толку, как Бог на душу положит, кое-как исхитряясь не нарушить правил, ибо присягали их соблюдать; а правила эти, черт их дери, благодаря своей непреложности избавляли воинов от излишнего труда напрягать мозги. Война – это бойня, либо тягомотина, и мало в ней такого, в чем нужно разобраться до тонкостей.
В сущности, Брадаманта была такая же, как они: быть может, все эти бредни о строгости и неукоснительности она вбила себе в голову, чтобы обуздать истинную свою природу. Например, во всем франкском войске не было другой такой неряхи, как она. Взять хотя бы ее шатер: большего бедлама, чем там, не найти было в лагере. Между тем как бедняги мужчины худо-бедно справлялись даже с теми делами, что принято считать женскими: со стиркой, штопкой, подметанием полов, уборкой ненужных вещей, – Брадаманта, воспитанная как принцесса и избалованная, ни к чему не прикасалась, и, если б не старые прачки и судомойки, которые всегда вертятся вокруг войска (все до единой воровки), ее шатер был бы хуже свинюшника. Но все равно она там почти и не бывала: день начинался для Брадаманты, когда она надевала доспехи и садилась в седло. Действительно, вооружившись, она становилась другой – блистала вся от гребня шлема до поножей, хвастливо выставив напоказ самые новые и совершенные доспехи, украсив бармицу темно-синими лентами, и беда, если хоть одна из них оказывалась не на месте! В этом желании блистать ярче всех на поле брани сказывалось не столько женское тщеславие, сколько постоянный вызов паладинам, чувство своего превосходства, надменность. От воинов – и франкских, и неприятельских – она требовала совершенства и во владении оружием, и в его содержании, будто бы это признак душевного совершенства. А если ей случалось встретить такого, кто отвечал хоть в некоторой мере ее запросам, в ней просыпалась женщина, и весьма любвеобильная. Уж тут-то она полностью отступалась от своих суровых принципов: Брадаманта была любовницей нежной и в то же время неистовой. Но если мужчина шел за нею по этому пути, забывался и терял над собой контроль, она тотчас разлюбляла его и пускалась на поиски поистине адамантового закала. Однако же кого она могла найти? Никто из лучших христианских или вражеских рубак не имел для нее авторитета: за каждым она знала слабости и глупости.