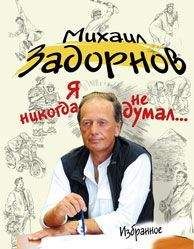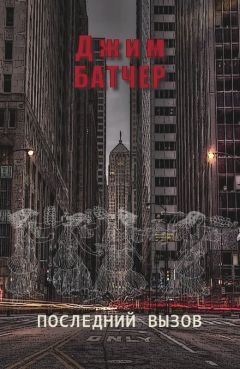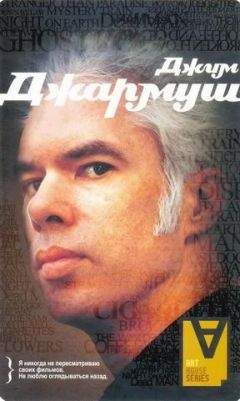Михаил Осоргин - Собрание сочинений. Т. 2. Старинные рассказы
Рассказав то, что положительно нами установлено, не будем фантазировать о дальнейшем. Весьма вероятно, что сам Терентий Трифонович навсегда или временно отказался от чести быть представленным августейшему монарху, которому уже было доложено об оригинальных и редко встречающихся качествах загадочного врача. Так как дело происходило в 1823 году, то ясно, что за два года он все равно не успел бы восстановить утраты даже в скромной степени, а преемник монарха, Николай Первый, решительно никакой склонности к мистике не проявлял. Столь же возможно, что оба сановника, узнав о случившемся несчастьи, отказались оказать Трифонову обещанную услугу: экспонат потерял значительную долю занимательности. Нет сведений и о том, продолжалась ли с прежним успехом практика Терентия Трифоновича или он ее утратил и поступил на государственную службу рядовым чиновником, тем использовав прежние связи. И вообще дальнейшее интереса для серьезного исследования не представляет.
Если же подойти к этой загадочной истории с любознательностью научно-медицинской, то придется признать Терентия Трифоновича первым или одним из первых врачей-магнетизеров, а по теперешнему — гипнотизеров. При этом, если лампадное масло считать случайной и незначащей условностью, а массаж — приемом второстепенного значения, то относительно бороды не может быть спора: она, несомненно, являлась тем искусственным зрительным раздражителем, который вызывает бездейственность зоны внимания и способствует автоматизации нервно-мозгового процесса, свершающегося в цепи нейронов на разных уровнях симпатической и центральной нервной системы, в то время как ассоциативные центры зоны внимания служат обычно лишь для связи между центрами представлений, то есть центрами чувства сознания. Если высказанное положение недостаточно убедительно для читателя, то можем подкрепить его указанием на то, что в случае с Далилой Терентию Трифоновичу, очевидно, не удалось локализовать и изолировать ее зону внимания и ограничить ее представление лишь качественными символами памяти, хранящимися, как известно, в корковых центрах органов чувств. Но этому вопросу мы предполагаем посвятить особую статью.
ИСПОЛНЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ
В поисках старинных документов, от каковой страстишки никак не отделаешься, натолкнулись мы на правильную тетрадочку, писанную почерком весьма разборчивым, почти что писарским. Начавши читать — до конца не отрывались, настолько показалось интересным. Из этой тетрадки приведем здесь подлинный рассказ очевидца, достаточно страшный, что на ночь его лучше и не читать. Происходит дело с небольшим сто лет назад, записано же — судя по стилю — немногим позже, хотя возможно, что рукопись в наших руках не первоначальная, не авторская, а позднейший список сего любопытнейшего документа. Знаки препинания расставлены нами сверх бывших.
* * *«…Мороз простирается по телу, когда представляю себе на глазах моих происшедшее! А как участие темных сил допустить неуместно и прилично только необразованному простолюдину, отнести же токмо к случаю не решаюсь, — то и излагаю бывшее в его доподлинности, как оное видел, а именно: исполнилось дерзостное обещание, данное мне и моей попадье человеком неразумным и отчаянной жизни.
Имя этому господину было Голованов, во крещении Димитрий, и служил регистратором в канцелярии Святейшего Синода, который чиновник записывает бумаги в книгу входящую или исходящую, не являясь лично никакой персоной, а, напротив, малой сошкой и всем подначальной. И вот при такой должности имел язык боек, а и не скажу чтобы совсем не забавен и даже остер. Происходил из семинаристов, и хотя был уже не молод, но сохранял качества студентов семинарии, почему дома, сняв служебный фрак, любил наряжаться в одежду прежнюю, то есть мухояровый сюртук, сапоги повисшие, штаны и куртку серого сукна толстейшего, как у будочников, о ближайшем же к телу белье и говорить нечего! Если было цело оное, то так тонко и так нежно, как холст, что у добрых людей по полам расстилается.
В отношении прочего также проявлял старые привычки, свойственные бурсе, а именно держал в почете гнусный порок, именуемый иносказательно собриетас[208], попросту — выпивахом, изощренно говоря: кви плюс бибат[209] — молодец, как в древности у греков, во времена варварства и геройских подвигов. Так что нередко, особливо же после получки нещедрого жалованья, домой под вечер возвращался весьма насыропившись и произнося слова, приводить которые здесь неуместно.
Сей человек был нашим соседом, проживая на Васильевском острове в соответствующей его званию каморе соседнего с нами дома купчихи Устиновой, к нам же забегал порой в рассуждении денежного займа у моей попадьи, которая, не корыстно и лишь по человеколюбию, за процент презреннейший доброй рукой ссужала недостаточных и впавших во временную нужду. Так точно и случилось в месяце октябре 1824 года, точно числа не укажу, поскольку мать попадья расписок не брала, веря людям достойным на слово, а чаще вещами. Зашед к нам в состоянии выпития, подпал под мое кроткое пастырское увещанье, а именно словами:
— Любезный господин Голованов, хорошо ли так? И здоровью ущерб, не говоря о грехе. Подумайте с молитвою и остепенитесь!
На что он позволил себе неуважительно к сану моему ответить:
— Молчи, борода, не на твои пью. А что до здоровья, то пить — умереть и нё пить — умереть, одно единственно.
Я же ему с прежней кротостью сказал:
— Трезвым умрешь в постеле с покаянием, пия же столь неистово, — сам себе готовишь смерть под забором.
И на эти пастырские речи получил от несчастного нечестивца, в присутствии попадьи, которая, по принадлежавшей ей щедрости, снизошла дать ему просимую малую ссуду под мухояровый сюртук:
— На постеле аль под забором, одно знай и ты, поп, и твоя сквалыга: жди меня к себе на самые твои именины.
И кто бы мог думать, что сей беспутник напророчил себе скорую кончину, ибо действительно на той же самой неделе смерть пресекла его златые дни в вечную укоризну мирской кривды, кто говорил — от его неистового бибамус[210], доктор же определил случайный сердечный щелк.
Родственников не имея, был предан земле на казенный счет по последнему разряду, в дощатом гробе, окрашенном простой охрой.
В дальнейшем нашем рассказе перехожу прямо к роковым дням города Петербурга, столь же страшным, сколь всякому достопамятным.
Ноября 7-го дня 1824 года в начале двенадцатого часа пополуночи долготерпеливый, но праведный Бог посетил столицу, а паче наш остров неслыханным наводнением. Кратко было оное, но ужасно и гибельно. С означенного часа до двух пополудни вода, вышедшая из берегов своих за день ранее, лилась быстро и обильным потоком во дворы, по улицам, в нижние этажи и покрыла весь остров на весьма высокую меру. У нас в соборном доме было оной до целой печатной сажени, между тем как 1747 года наводнение помнившие уверяли, что тогда на сем дворе воды было менее одной четверти аршина.
Правду сказать — ужасно вспомнить о сем событии! Как с горы, катилась вода во все места, барки с грузом своим плыли независимо по проспектам нашего острова, дрова и бревна, носясь в свободе стихии, заполняли дворы, лошади тонули с упряжью, пропадали куры по неумению летать в воздухе. А люди, люди! Не успев укрыться, цеплялись по проспектам за ветви деревьев и висели, пока могли, спасаясь с пришедшей помощью или же обрываясь в холодную воду и в ней утопая. Дома и колокольни были наполнены посторонними жителями, не достигшими своих помещений и нашедшими их под водою. Дети, матери, кровные, соседи, чиновники, семьи духовенства — они передадут потомству неописуемые утраты. О Васильевский остров! Я сказываю только частицу, представшую моему и попадьи моей глазу; прочие предметы горести были скрыты для нас, заключенных водою в нижнем этаже нашего дома, кругом уже объятого хладными водами.
Не думали, что придет такая крайность, что нельзя уже выйти из дому, чтобы подняться в верхний этаж, да и боялась попадья, что затопит постельное белье и припасы, особенно за сахар, бывший в головах, как убогое накопление скромных доходов от треб и от хозяйственности моей подруги жизни. Когда убедились, что вода не сбывает, а все прибавляется, уже достигая окон, бежать, оставя все добро, было поздно, и через щели дверей врывались ужасные ручьи. В надежде, что спасатели примут нас в лодку и доставят в безопасность, выставили в окне раму и, настежь оное распахнув, взывали громко о несчастье, но, к ужасу нашему, подплыла к окну неизвестная лошадь, пытаясь спастись внутрь дома, а быв отогнана маханьем, все же спаслась во дворе, где достигла церковного балкона, откуда впоследствии с трудом была спущена на землю. Другое животное, а именно корова, приплыла к сквозному крыльцу, но была не в силах подняться и, залитая водой, зацепилась рогом и окостенела от мороза, так что ее нашли висящую.