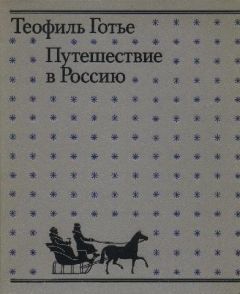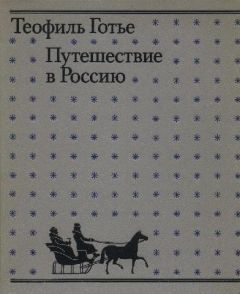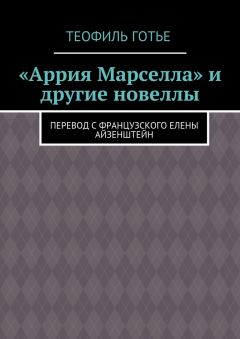Теофиль Готье - Мадемуазель де Мопен
Бывало, хочу приблизиться к вам и сказать: «Моя дорогая красавица, я вас обожаю!» — и вижу, как вы нежно склонились к ушку одной из дам и нашептываете ей сквозь локоны мадригал за мадригалом, комплимент за комплиментом. Вообразите мое положение. Или какая-нибудь женщина, с которой в приступе своеобразной ревности я с величайшим упоением содрал бы кожу живьем, опирается на вашу руку и тащит вас в сторону, чтобы поверять вам невесть какие ребяческие тайны, и целые часы напролет торчит с вами в оконной нише.
Я исходил от ярости, видя, что с вами говорят женщины, так как это убеждало меня в том, что вы мужчина, а окажись вы и впрямь мужчиной, я был бы обречен на нестерпимые пытки. Когда же к вам развязно и непринужденно приближались мужчины, я ревновал еще пуще: я думал, что вы женщина, и они могут догадаться об этом так же, как я; меня обуревали самые противоречивые страсти, и я не знал, на чем остановиться.
Я злился на самого себя, осыпал себя самыми жестокими упреками за то, что до такой степени терзаюсь подобной любовью и не нахожу сил вырвать из сердца это ядовитое растение, которое выросло там в одну ночь, подобно смертоносному грибу; я проклинал вас, называл своим злым гением; на миг я даже поверил, что вы — Вельзевул собственной персоной, ибо я не мог объяснить себе ощущения, которые испытывал вблизи вас.
Стоило мне уговорить себя, что вы на самом деле переодетая женщина, как сразу неправдоподобие мотивов, коими я силился оправдать подобный каприз, вновь погружало меня в неуверенность, и я опять скорбел о том, что обликом, который в мечтах я приписывал той, кого полюбит моя душа, наделен человек того же пола, что я; я винил случай, который одарил мужчину такой обольстительной внешностью и к неизбывному моему несчастью подстроил мне встречу с ним в тот миг, когда я уже перестал надеяться, что увижу во плоти абсолютную идею прекрасного, которую так долго лелеял в сердце.
Теперь, Розалинда, я глубоко убежден, что вы — прекраснейшая из женщин; я видел вас в платье, присущем вашему полу, я видел ваши плечи и руки с их такими чистыми, такими безукоризненными округлостями. Та часть груди, что виднелась из-под вашей косынки, может принадлежать лишь юной девушке: ни у прекрасного охотника Мелеагра, ни у изнеженного Вакха с их наводящими на сомнения формами никогда не бывало ни такой пленительной стати, ни такой нежной кожи, хотя оба они изваяны из паросского мрамора и за два тысячелетия отполированы поцелуями влюбленных. В этом смысле терзания мои прекратились. Но это еще не все: пускай вы женщина, и в моей любви нет более ничего предосудительного; я могу покориться ей и вверить себя потоку, влекущему меня к вам; как бы ни была велика и безудержна страсть, которую я к вам питаю, она дозволена, и я могу признаться в ней; но вы-то, Розалинда, вы, из-за которой я молча горел в огне, вы, не подозревавшая о беспредельности моей любви, вы, кого мое запоздалое признание, быть может, лишь удивит, — вы не питаете ко мне ненависти, вы меня любите, вы можете меня полюбить? Не знаю — и трепещу, и чувствую себя еще более несчастным, чем раньше.
Иной раз мне кажется, что я не противен вам; когда мы играли «Как вам это понравится», вы вкладывали в некоторые места вашей роли странную интонацию, усиливавшую их смысл и, пожалуй, побуждавшую меня к объяснению. Мне почудилось, что я вижу в ваших глазах и улыбке великодушное обещание снисходительности, и я почувствовал, как ваша рука отвечает моей пожатием. Если я ошибся… — Боже! Страшно подумать, что тогда. Ободренный всеми этими знаками и пришпориваемый любовью, я написал вам, ибо платье, которое вы носите, так мало располагает к подобным признаниям, что слова тысячи раз замирали у меня на устах; пускай я знаю и твердо убежден в том, что обращаюсь к женщине, — мужской наряд отпугивал все мои нежные влюбленные мысли и не пускал их полететь к вам.
Умоляю вас, Розалинда, если вы меня еще не любите, постарайтесь меня полюбить: ведь я полюбил вас наперекор всему, под покровом, которым вы были окутаны, конечно, из жалости к нам; не ввергайте меня на всю оставшуюся жизнь в самое жестокое отчаяние и в самое угрюмое разочарование; подумайте о том, что я обожаю вас с тех пор, как первый луч сознания забрезжил у меня в голове; что вы заранее были явлены мне в откровении, и когда я был совсем еще мал, вы, увенчанная короной из капелек росы, в грезах прилетали ко мне на радужных крыльях и с голубым цветком в руке; что вы — цель, порука и смысл моей жизни; что без вас я только пустая видимость, и если вы задуете огонь, который сами же затеплили, во мне останется только щепотка пепла, мелкого, неосязаемого пепла, каким припудрены крылья смерти. Розалинда, вы, знающая столько рецептов для исцеления любовной хвори, — излечите меня, ибо я очень болен; доиграйте вашу роль до конца, сбросьте одежды прекрасного Ганимеда и протяните вашу белую руку младшему сыну храброго рыцаря Роланда де Буа.
Глава четырнадцатая
Я сидела у окна и занималась тем, что смотрела на звезды, весело расцветавшие на небесных клумбах, и вдыхала аромат флоксов, который доносил до меня замирающий ветерок. Окно было открыто, и сквозняк задул мою лампу, последнюю, которая еще светилась в замке. Мои раздумья перетекали в смутные грезы, понемногу мною овладела какая-то сонливость, однако я все продолжала сидеть, облокотясь на каменную балюстраду, завороженная не то очарованием ночи, не то беспечностью, не то забвением. Розетта, видя, что лампа у меня погасла, и не имея возможности меня разглядеть, поскольку прямо на мое окно падала тень от стены, решила, несомненно, что я уже в постели — она только того и дожидалась, чтобы отважиться на последнюю отчаянную попытку. Она так тихо отворила дверь, что я не слыхала, как она вошла, и прежде, чем я ее заметила, очутилась в двух шагах от меня. Ее очень удивило, что я еще не в постели, но, быстро оправившись от изумления, она подошла ко мне, взяла за руку и дважды назвала по имени:
— Теодор, Теодор!
— Как! Это вы, Розетта, здесь, в такое время, совсем одна, впотьмах, совершенно в дезабилье?
Надо тебе сказать, что на красавице была только ночная накидка из тончайшего батиста и неотразимая сорочка, отделанная кружевами, та самая, которую я не пожелала увидеть в день достославной сцены в лесном павильоне. Руки, гладкие и холодные, как мрамор, были совершенно обнажены, а полотно, прикрывавшее тело, было такое тонкое и прозрачное, что сквозь него просвечивали бутоны грудей, точь-в-точь как у мраморных купальщиц, если бы их завернули в мокрые покрывала.
— Уж не упрекаете ли вы меня в этом, Теодор? Или это дань риторике? Да, это я, Розетта, прекрасная дама, здесь; в вашей спальне, а не в своей, где мне следовало бы находиться, в одиннадцать часов вечера, а возможно, и в полночь, без дуэньи, без компаньонки, без горничной, почти обнажена, в простом ночном пеньюаре, — весьма удивительно, не правда ли? Я поражена этим не меньше вашего и не очень понимаю, как объяснить вам свое появление.
С этими словами она одной рукой обняла меня и упала в изножие кровати, увлекая меня за собой.
— Розетта, — сказала я, пытаясь вырваться, — пойду попробую зажечь лампу; нет ничего более унылого, чем темнота в комнате; и потом, когда вы здесь, ничего толком не видеть и лишать себя зрелища вашей красоты значит совершать сущее злодейство! С вашего позволения я воспользуюсь куском трута и спичкой, чтобы сотворить маленькое переносное солнце, которое явит моим глазам все, что прячет от них в своем сумраке ревнивая ночь.
— Не нужно; я не хочу чтобы вы видели, как я краснею; я чувствую, что щеки у меня так и горят, потому что мне до смерти стыдно. — Она порывисто уткнулась лицом мне в грудь и на несколько минут замерла, словно задохнувшись от смущения.
Я тем временем машинально перебирала пальцами длинные локоны ее распущенных волос; в мыслях я напряженно искала какую-нибудь пристойную лазейку, чтобы выбраться из этого мучительного положения, но ничего не могла придумать, потому что меня загнали в угол, и Розетта, казалось, твердо решила не уходить из комнаты ни с чем. Одета она была с отважной беззастенчивостью, что не сулило ничего хорошего. Я и сама была только в распахнутом халате, не слишком надежно защищавшем мое инкогнито, и потому исход баталии изрядно меня беспокоил.
— Выслушайте меня, Теодор, — сказала Розетта, приподнявшись и убирая волосы с лица, смутно видневшегося в слабом свете звезд и тоненького серпа восходившей луны, который проникал в комнату сквозь открытое окно. — Мой поступок может показаться странным, его осудит кто угодно. Но вы скоро уедете, а я вас люблю! Я не могу отпустить вас просто так, не объяснившись. Может быть, вы никогда не вернетесь; может быть, мы свиделись с вами в первый и последний раз. Кто знает, куда вы держите путь? Но куда бы вы ни уехали, вы увезете с собой мою душу и мою жизнь. Если бы вы остались, я не дошла бы до такой крайности. Мне бы довольно было блаженства видеть вас, слышать вас, жить рядом с вами, и о большем бы я не мечтала. Я замкнула бы любовь в своем сердце; вы бы верили, что я для вас не более чем добрый искренний друг, — но это невозможно. Вы говорите, что вам непременно надо уехать. Вам неприятно, Теодор, что я привязана к вам, как влюбленная тень, которая может лишь ходить за вами и хотела бы слиться с вами воедино; вам, должно быть, не нравится, что за вами все время следят умоляющие глаза и тянутся руки, жаждущие вцепиться в край вашего плаща. Я это знаю, но ничего не могу с собой поделать. И потом, вы не вправе жаловаться: все это из-за вас. Я жила спокойно, безмятежно, почти счастливо, пока не узнала вас. И вот вы приезжаете — красивый, юный, приветливый, похожий на обольстительного бога Феба. Вы дарите мне самые усердные заботы, самое утонченное внимание; никогда не бывало на свете более обаятельного и галантного кавалера. С ваших уст всякую минуту слетали розы и рубины; все оказывалось для вас поводом для мадригала; вы умеете произнести совсем незначащую фразу с таким видом, что она превращается в чарующий комплимент. Женщина, которая с самого начала смертельно вас возненавидела, — и та в конце концов полюбила бы вас, а я вас полюбила в тот самый миг, как увидела. Почему же вы, столь достойный любви, удивляетесь, что вас так любят? Ведь это совершенно естественно! Я не сумасбродка, не ветреница, не романтическая барыня, готовая влюбиться в первую встречную шпагу. Я умею держать себя в обществе, знаю жизнь. Всякая женщина на моем месте, даже самая добродетельная или самая неприступная, поступила бы так же, как я. Какой умысел, какие намерения вы питали? Понравиться мне, полагаю, ибо не нахожу другого ответа. Почему же вы как будто недовольны тем, что это вам так блестяще удалось? Может быть, я невольно сделала что-нибудь, что очень вам не понравилось? В таком случае прошу у вас прощения. Может быть, вы уже не находите меня красивой или обнаружили во мне какой-нибудь отталкивающий изъян? Вы вправе быть разборчивым по части красоты, но одно из двух: или вы лгали, непонятно зачем, или я тоже недурна собой! Я так же молода, как вы, и я вас люблю; почему же вы пренебрегли мною? Вы так за мной увивались, с такой неотступной заботой поддерживали за локоть, так нежно пожимали мне руку, когда я не отнимала ее от вашей, так томно поднимали веки, взглядывая на меня; если вы меня не любили, к чему тогда были все эти уловки? Или вы, чего доброго, так жестоки, что заронили в мое сердце любовь, чтобы потом потешаться надо мной? Ах, это было бы чудовищным надругательством, кощунством, святотатством! Такие развлечения годятся лишь для порочной души, и я не могу поверить, что вы таковы, хоть ваше поведение и необъяснимо. В чем же причины столь внезапного крутого поворота? Я просто теряюсь в догадках. Какую тайну скрывает ваша холодность? Я не верю, что вы питаете ко мне отвращение; все ваши поступки доказывают, что это не так, потому что невозможно столь настойчиво ухаживать за женщиной, в которой все вам противно. Что вы затаили против меня, Теодор? Что я вам сделала? Пускай любовь, которую вы, казалось, питали ко мне, развеялась, — моя-то, увы, осталась при мне, и я не в силах вырвать ее из сердца. Сжальтесь надо мной, Теодор, я очень несчастна. Притворитесь хотя бы, что вы меня немного любите, и скажите мне какие-нибудь ласковые слова; вам это недорого обойдется, если только я не вызываю у вас непобедимого омерзения…