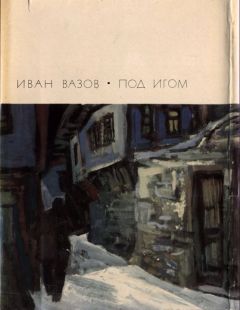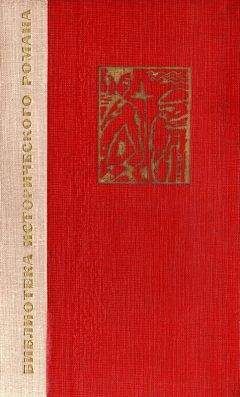Ваан Тотовенц - Жизнь на старой римской дороге
Мать стала готовить сына в дорогу: сшила новую одежду, справила постель, купила шубу и зашила в пояс несколько золотых.
Она долго не могла проститься с сыном, отец же, сдержанно поцеловав его, сказал:
— Береги себя, сынок…
Все удивились выдержке хаджи-эфенди. Но когда коляска тронулась и, удаляясь, постепенно скрылась из глаз, отец поднялся к себе, открыл шкаф, залпом выпил две рюмки водки, и мы увидели, как он плачет, молча, содрогаясь всем телом. Мать, вся в слезах, подошла к нему. Он старался не смотреть ей в глаза:
— Вот теперь дом опустел, — сказал отец и попросил еще водки.
— Бог не пожелал счастья моему сыну, — прошептала мать.
Отец пробормотал какое-то страшное проклятье в адрес бога. Мать поспешно вышла из комнаты и перекрестилась…
Акоп возвратился посвежевшим и окрепшим. Он, казалось, даже стал выше ростом.
— Вернулся твой Акоп? — спрашивали у матери. И она отвечала:
— Вернулся мой тополек, вернулся.
Акоп видел море, большие города: Самсун, Полис, Смирну, Варну. Каждый день рассказывал он нам о своем путешествии. Мы слушали, разинув рты, ловя каждое его слово. Отец, не раз бывавший в тех краях, задавал вопросы:
— Был на Скутари?[10]
— Да, поднимался..
— А в Бояджи-гюх?[11]
— И там был.
— В Стамбуле хаш[12] ел?
— Ел.
— Молодец, сынок…
Мать радовалась, что Акоп побывал в местах, где бывал и ее муж.
— В Хавзе[13] в баню ходил?
— Нет, отец, не успел.
— Э, поехать в Хавзу и не сходить в баню?.. В другой раз не забудь сходить.
— Хорошо, — соглашался Акоп.
Путешествие Акопа было единственной темой разговоров в доме. Все только и делали, что слушали его рассказы, облачались в привезенную им одежду, развешивали на стены привезенные им подарки.
Мне он подарил красные чусты[14]. Когда я, нарядившись, вышел в них в город, мне казалось, что все разглядывают мою обнову.
Спустя месяц после приезда Акоп тайком от всех отпер «комнату» Маран, которую сам же запер перед отъездом, и вышел оттуда словно его подменили.
Воспоминания ли о Маран, а может быть, и скука провинциальной жизни сделали свое: загнали Акопа в тоску. Сначала это мало бросалось в глаза, а потом уже не на шутку стало беспокоить родителей.
Как-то, посадив меня к себе на колени, отец подозвал мать, и они заговорили об Акопе.
— Пора его женить, — сказал отец.
У матери радостно заблестели глаза.
— Если сумеешь убедить его…
— Похоже, что в Полисе девушки утерли ему молоко с губ.
Матери не понравились слова отца.
— Откуда ты знаешь? — возразила она.
— Значит, знаю, раз говорю, — отрезал отец.
Мать обещала поговорить с Акопом.
— Ты только не спугни его, — предупредил отец.
Конечно, девушка должна быть красивой. Отец предложил даже:
— Из какой семьи — неважно, была бы только хороша собой…
Мать прямо-таки опешила. Как, должно быть, сильно любил он Акопа, что решил поступиться своими принципами.
Она добавила.
— И хорошей чтоб была, и молоко у нее чтоб было доброе…
— Конечно, — согласился отец.
Шли дни. Поиски невесты ни к чему не приводили. Мать отчаивалась найти девушку, соответствующую образу, созданному воображением отца.
— Я хочу для сына девушку красивую, как богиня, — твердил отец.
Прошел месяц. Мать даже перестала говорить на эту тему.
И вот однажды отец спросил ее:
— Ну, Маргарит, нашла девушку?
— Ты ищешь ангела, а на земле живут люди.
— Да, ангела, ты права.
— Ангелов нет.
— Есть, — сказал отец, — есть, я нашел.
— Кого же?
— Дочь Григора-аги.
— Она еще ребенок.
— Не беда, тебе самой было тринадцать…
Мать стыдливо опустила голову, — а ведь он прав.
Потом спросила:
— А отдадут?
Отец был задет.
— Я попрошу — пусть только откажут: девушке тринадцать, парню восемнадцать, — почему бы не отдать?!
— А парень-то какой! — добавила мать.
Ехисапет, дочь Григора-аги, действительно была красивая девушка, именно такая, какая рисовалась воображению отца. Когда мать сказала о ней Акопу, он улыбнулся и обнял ее.
Зашли как-то вечером мои родители в гости к Григору-аге и, поговорив о том о сем, завели разговор о Ехисапет.
— Хаджи-эфенди, дочь моя — ваша, только я должен переговорить с женой, — сказал Григор-ага.
— Хорошо, — согласился мой отец.
На следующий день, вечером, нам принесли большой поднос пахлавы[15] из дома Григора-аги — знак согласия.
Потом несколько дней наши дома обменивались подарками. А еще через восемь дней мать, вернувшись из бани, поднялась к отцу и сообщила, что там видела Ехисапет.
— Ну как она?
— Будто с луны сошла, — ответила мать.
Рассказала, как Ехисапет, с разрешения своей матери, пришла и поцеловала ей руку и как она не хотела отпускать от себя девушку, сама выкупала ее, расчесала волосы, одела, усадила в фаэтон и отправила домой.
— Ты правильно поступила, — похвалил отец.
Решили не откладывать дело в долгий ящик, вскоре последовало обручение Акопа, а затем и женитьба.
Мать позаботилась, чтобы свадьба была пышной, но с отцом у нее вышла нелепая ссора. Отец не хотел, чтобы его сына венчал священник.
— Привезем ее из отцовского дома, и на том дело с концом, — твердил отец.
Мать возражала:
— Хорошо, я согласна с тобой. Но захотят ли родители девушки, чтобы их дочь осталась невенчанной?
Отец понимал, что жена права — нельзя девушку приводить в дом без венца, но ему было досадно, что без священника нельзя обойтись. Наконец после долгих уговоров отец уступил и согласился венчать сына, однако настаивал, чтобы после венчания священник ему не попадался на глаза. Мать тайком от отца приняла священника, накормила, напоила его, заплатила деньги и сама проводила, наказав домашним ничего не говорить отцу. Хотя отец и подозревал жену в непослушании, он тем не менее ни о чем не догадался, так как все это происходило за его спиной и формально требование его было выполнено.
С появлением Ехисапет в доме стало светлей и радостней. Она была еще девочкой и вместе с нами играла в мяч, резвилась в саду и купалась в бассейне. Приходя домой, Акоп заключал ее в свои объятия, брал на руки и уносил в комнату, целуя и приговаривая: «Маран, милая моя Маран…»
Геворка, брата моего, следовавшего по возрасту за Акопом, я всегда вспоминаю с особой благодарностью, потому что его — единственного в пашей семье — я никогда не видел сердитым. Бывало, разойдется кто-то, начнет кричать, но появляется Геворк, мило улыбается, отпускает веселую шутку, и тут же воцаряются мир и спокойствие. До сих пор я не перестаю восхищаться его выдержкой, ведь люди обычно восхищаются именно теми достоинствами, которых нет у них самих.
Геворк был человек спокойный и уравновешенный. Пожалуй, единственной его страстью был кишмиш[16]. Да, кишмиш он любил. Он мало ел, разборчив был в еде, но к кишмишу питал особую страсть. Ради кишмиша он мог поступиться всем на свете.
Однажды Геворк заболел и лежал с высокой температурой. Отец подошел к нему и, приложив руку к горячему лбу сына, спросил:
— Геворк, хочешь кишмиш?
Геворк приоткрыл глаза, он никогда не отказывался от кишмиша, но на этот раз ответил с нескрываемой досадой:
— Нет, не хочу, я болен…
Тогда отец послал за доктором:
— Если он отказывается от кишмиша, значит, плохи дела.
Помню и другого своего брата — Левона, которого дома звали просто Лоло. Смуглая кожа, высокий лоб, темные, слегка вьющиеся волосы, большие черные глаза — таким был наш Лоло. Это он рвал и метал, когда сердился, это его голос гремел на весь дом, но в груди его билось доброе сердце. Геворк никогда не плакал, никогда не терял самообладания, Левону же ничего не стоило выйти из себя, он становился свирепым, как зверь, но только отойдет — тот же ребенок, доверчивый и мягкий. Я восхищался выдержкой Геворка, однако всем существом тянулся к Лоло.
Я любил, когда Лоло, возвратившись с какой-нибудь прогулки с друзьями, рассказывал:
— Вошли мы в ущелье, и вдруг посыпался град величиной с кулак.
Спустя годы, когда Лоло оказался в Нью-Йорке, в этом чудовищном и страшном городе, его необузданные страсти нашли себе выход. Он окунулся в мутные воды нью-йоркской биржи, испытал взлеты и падения: сегодня он богач, а завтра — ни цента в кармане.
Я приехал в Америку на французском пароходе «Ла Турин». Лоло поднялся на борт.
— Как мать? — спросил он.
— Хорошо, только когда вспоминает тебя и Геворка — плачет.
Я заметил, что он прослезился.
Лоло взял меня за руку, и мы вместе вступили на американский берег. Всю ночь он показывал мне Нью-Йорк.