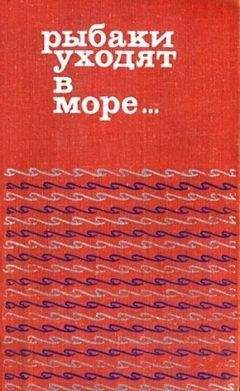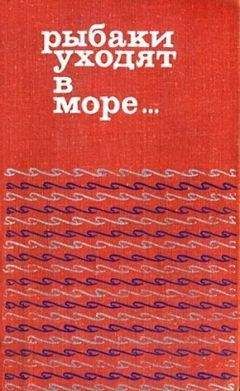Оулавюр Сигурдссон - Избранное
Он стал угрюм и молчалив. Иногда в сумерки подолгу сидел на сундуке в кухне, уставясь в огонь, ничего не слыша вокруг, будто стремясь прочесть в танцующих языках пламени свою судьбу. Молча принимал у матери тарелку, съедал несколько ложек и отставлял еду.
Мать спрашивала, что с ним, может, у него что-нибудь болит?
— Нет, — отвечал он, — ничего у меня не болит.
— Тогда почему ты так плохо ешь? — не отставала она. — С тобой что-нибудь случилось?
— Нет, — отвечал он, глядя в огонь.
Но однажды вечером он заметил, что сестра упорно наблюдает за ним. Теребя светлую косу, она стояла в углу у плиты и исподтишка разглядывала его. Видно было, что ей не терпится поделиться с ним чем-то очень важным. Во взгляде ее сквозило участие. Она была худа и веснушчата, двумя годами моложе его и только этой весной конфирмовалась.
— Мюнди, — сказала она, когда мать и братья ушли из кухни. — А я знаю, отчего ты стал такой странный.
Он молчал, будто и не слышал.
— Сегодня ночью я просыпалась, — продолжала сестра.
— Ну и что? — буркнул он, не понимая, куда она клонит.
— А вот что, — прошептала она. — Ты говорил во сне.
Он почувствовал, как щеки вспыхнули жаром и застучало в висках. Зеленый мир в сердце сжался, точно от укола иглы. Он не смел поднять глаз, не смел пошевелиться. Итак, его тайна не была больше тайной: он сам выдал ее во сне. Его тощая веснушчатая сестра держала в своих руках его жизнь и смерть, хотя была на целых два года моложе.
— Все спали, больше никто ничего не слышал, — прошептала она. — Но я никому не проболтаюсь, Мюнди, милый.
— О чем не проболтаешься? — спросил он, пытаясь сдержать дрожь в голосе.
— Ну, об этом… Сам знаешь о чем. — Подмигнув, она снова затеребила косу и на некоторое время умолкла. — Послушай, Мюнди, — сказала она наконец, — ты давно уже обещал починить замок у моей шкатулки.
— Когда это я обещал?
— Еще летом, — ответила она. — Очень неприятно, когда не можешь держать под замком собственные вещи.
— Ладно, — сказал он сухо и встал. — Принеси в сарай свечу.
— А из шкатулки все выложить?
Нет, выкладывать не обязательно, но пусть она сама тоже придет в сарай и постоит рядом, пока он будет чинить замок. Подаст ему молоток, клещи, подержит гайки.
Сестра беспрекословно повиновалась и стояла рядом все время, пока он возился с замком. Он искоса поглядывал на нее, облизывая пересохшие губы и насвистывая какую-то песенку. Когда стало ясно, что дольше затягивать работу нельзя, он повернулся к сестре спиной и кашлянул.
— Так что ты там сказала? — пробормотал он с рассеянным видом. — Я говорил во сне, что ли?
— Да. — Голос сестры был полон сочувствия. — Ты говорил во сне.
— И что же я сказал?
— Хочешь знать? — спросила она.
— Конечно, почему бы и нет.
— Ты сказал: «Милая».
— И больше ничего?
— Ничего, только один раз еще: «Сердечко мое».
У него стало легче на душе. Он отодвинул стамеску, приложил замок к шкатулке, наморщил брови и глубокомысленно уставился в потолок. Постой-постой… Дай-ка вспомнить… Ну да, он видел сон. Ему снилось, что он читает вслух какую-то книгу, вроде бы роман. Там говорилось о мужчине, который ухаживал за одной теткой и все время твердил ей: «Милая», ну да, и «Сердечко мое» тоже! Он это отлично помнит. Мужчина ходил, кажется, в коричневой фуфайке, а на женщине был синий клетчатый передник, а сама книга была большая и толстая, пожалуй со старый псалтырь, что стоит на полке над отцовской кроватью. Вот только он не припомнит, какие там были страницы — сплошь желтые и растрепанные, как в старом псалтыре, или пожелтевшие только по краям.
— Это было сегодня ночью? — помолчав, разочарованно спросила сестра с легким сомнением в голосе.
— Да, как раз сегодня ночью.
— А больше тебе ничего не снилось?
— Нет, — ответил он решительно и еще раз приложил замочек к шкатулке. Больше ему, слава богу, ничего не снилось. Не стоит придавать значение снам. В лучшем случае они предвещают перемену погоды.
Сестра сняла нагар со свечи. Не выпуская из рук светлую косу, она с волнением рассматривала пол в сарае.
— Мюнди, — начала она после довольно долгого молчания, даже веснушки у нее на щеках покраснели. — А ты никогда не слышал, как я говорю во сне?
Брат помедлил, подкрутил винтик и повернул ключ в замке.
— Слышал, — соврал он. — Осенью несколько раз.
— Когда именно? — спросила она.
— Часто, — ответил он. — Ты выбалтывала во сне ужасные вещи, когда возвращалась из церкви по воскресеньям. Думаю, отец очень удивился бы, услышь он тебя хоть раз!
— А что я говорила? — забеспокоилась сестра.
— Тебе лучше знать, — ответил он. — Вот твоя шкатулка, получай. Надо будет достать красной краски и подновить розы на крышке, а то они совсем стерлись.
— А разве у тебя есть кисточка?
— Нет, но ее можно сделать из конского волоса.
Она взяла шкатулку, подержала ее в руках, неуклюжая, раскрасневшаяся, шмыгнула раз-другой носом, бросила на него умоляющий взгляд и прошептала:
— Мюнди, дорогой…
— Да ладно, ладно, — оборвал он ее и вышел из сарая. — Не бойся, я не проболтаюсь. И кому, в сущности, интересна дурь, которой набиты головы только что конфирмованных девчонок!
5Но с тех пор он жил в постоянном страхе, боясь проговориться во сне. Каждое утро он испытующе вглядывался в лица родителей, сестер и братьев и зачастую готов был поклясться, что им все известно о зеленом мире в его сердце, впрочем, к концу дня он обычно успокаивался. И все равно был настороже, перестал смотреть в огонь и старался по возможности скрывать свои чувства, чтобы никто ничего не заподозрил. Часто, очень часто грудь тревожно щемило, ведь тоска — непременный спутник любви, а следом за тоской приходят и сомнения, и мрачные мысли.
Стало еще холоднее, ветры с ледников вздымали над горой белые вихри, и скоро земля замерзла, стала белой и молчаливой. Незадолго до рождества установилась тихая и ясная погода. Лунный свет весело скользил по снежной равнине, среди звезд то и дело вспыхивало северное сияние. И все же на дорогах никого не было видно, кроме охотников за куропатками да почтальона, разве что изредка покажется бородатый фермер или работник, у которого вышел табак.
Однажды он уже совсем было решился написать письмо и попросить почтальона отнести его Сигрун Марии — даже не письмо, а всего несколько строчек, просто чтобы она знала: есть люди, которые помнят о ней, думают о ней иногда лунными вечерами, прислушиваясь к музыке собственного сердца. В конце письмеца можно будет добавить: «До встречи».
Но чем больше он размышлял над этим, тем яснее понимал, что слух о том, что он написал письмо Сигрун Марии, мигом облетит всю округу, точно сообщение о поимке кита, ведь почтальон, известный болтун и насмешник, невзирая на свою святую обязанность держать чужую переписку в глубокой тайне, непременно сочинит какой-нибудь стишок, в котором изобразит его рыцарем-крестоносцем, а девушку — юной графиней.
Нет, сначала надо бы поговорить с Сигрун Марией наедине. Он даже не был уверен, помнит ли она его еще. Может, она никогда им всерьез и не интересовалась, может, только в шутку упомянула о разнице в возрасте своих родителей и о том, как счастливы были в браке дедушка и бабушка из Монастырского Подворья, которые души друг в друге не чаяли и были похоронены в одной могиле. А он только переминался с ноги на ногу, молчал как пень — бедняжка чуть ли не клещами вытягивала из него каждое слово, — кусал губы, мял в руках поводья и не сводил глаз с каменушек, вместо того чтобы поддерживать разговор о погоде и о хозяйственных делах. Даже сочувствия не сумел выразить, когда она пожаловалась, что у нее, должно быть, слабое сердце — в груди иной раз как-то странно покалывает, а в ушах прямо колокольный звон. Нечего и надеяться, разве дочь самого зажиточного фермера в округе выберет в женихи простого нескладного парня, только и умеющего, что корпеть над книгами, да к тому же недотепу, который и урожаем не интересуется, и о запасах сена не заботится. Нет, она явно найдет себе кого-нибудь получше.
Тяжело вздохнув, он написал пальцем на сугробе возле сарая: «Люблю тебя. Твой до могилы». Вдруг послышался глухой звук далекого выстрела, он вздрогнул и поспешил стереть это краткое послание, адресованное Сигрун Марии. Как он завидовал охотникам, как хотелось ему иметь охотничье ружье, лучше всего двустволку, чтоб можно было самому зарабатывать деньги, как другие; тогда бы он не ходил за скотиной, а проводил дни и ночи на пустоши, заряжал ружье, спускал курок, опять заряжал и опять спускал курок, слушая, как эхо долго повторяет выстрелы в тишине.
Он уже не помнил, как однажды осенью у подножия скалистого уступа молил бога обогреть и накормить зимой куропатку. Будь у него двустволка, он мог бы как-нибудь в сумерках очутиться у дверей одного хутора — окровавленный, но мужественный, опоясанный патронташем, с полусотней куропаток за плечами. Он постучится и попросит глоток воды. Он неважно себя чувствует, с ним только что случился обморок, нельзя ли ему прилечь ненадолго, пока все пройдет.