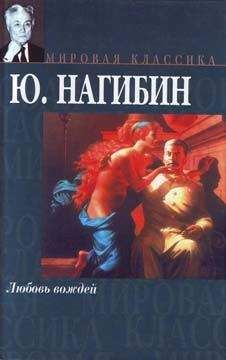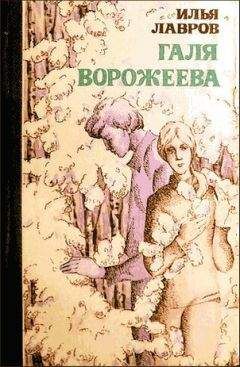Илья Митрофанов - ЦЫГАНСКОЕ СЧАСТЬЕ
Я не слушала. Сидела в сторонке, в окно глядела. Ветеран не давал покоя.
"Что приуныла, Сабина? - спрашивал.- Ты не падай духом - падай брюхом!" - И гы-гы-гы!
Я не стерпела.
"Что скалишься, конь старый?"
Ветеран Пашу Гречиху в бок толкал.
"Слышь, Папгуня? А я еще, конь! Да-а-а! Борозды не попорчу при случае…" - И снова - гы-гы-гы!
Паша Гречиха отмахивалась:
"Сиди-и-и! Конь! Мерин ты актированный. Что под ухом гудишь? Чуешь, горелым тянет?"
"Сожрут и горелый!-посмеивался Ветеран.- Помню, в Австрии…"
Но мы не слушали. Мы с тетей Пашей "амбразуру" откроем - точно, горелым тянет.
"Ты куда смотрел? Куда?" - тетя Паша кричала.
А Ветерану было хоть бы что.
"Не горюй, Пашуня! Ночная выпечка - не калач с маком. Поставим ее раком…- И мне подмигивал.- Верно я говорю, Сабина?"
"Отстань от меня, языкатый!"
"Не обижайсь, красотуля! Жизнь на свете скука, а без слова мука. Ты погадай мне лучше. Что меня в жизни ждет?"
"Тюрьма тебя ждет!"
Ветеран уже не шутил, обижался,
"Ты не каркай, не каркай!"
"А что мне каркать? - я ему говорю.- Ты сколько масла до хаты своей унес?"
"Кто унес? Ты видала?"
"Видала. Что испугался? Не бойсь, никому не скажу…"
Кому говорить?
Я думала раньше - на пекарне только мука и дрожжи, ну соль еще. А там все, что голодному не приснится, было. Масло было, орехи грецкие, орехи маленькие, сироп спиртовый в стеклянных банках стоял, яйца, изюм, мак рассыпной, сахар - все было. И все это добро они по хатам своим тянули. Как куры при мельнице жили. И Ветеран, и Паша Гречиха, и Два Степана. Я даже не знала, что гажё могут такими быть. Я про себя думала, я о всех нас, щявале, думала. Все нас за воров считают. Пусть так считают. Мы воровали, и я воровала. Но я всегда знала, что я ворую. Меня с детства мачеха воровать научила. Я украду. Пусть поймают меня. Я отпираться не буду. А они крали - не сознавались. Они на доске висели. Ветеран, Паша Гречиха, Под стеклом висели. "Победители соревнования" - было написано на доске сверху. А снизу: "Ветераны труда". За рупь двадцать не купишь их. Собрания очень любили. Ветеран на пиджак медали цеплял. За Венгрию, где он мадьярок щупал. За Румынию, где он вино ведрами пил, и Австрию, откуда пальто и часы золотые привез. Два Степана тоже пиджак с галстуком надевал. Сидел за столом, шеей вертел. И их рядом с собой сажал. "Проголосуем, товарищи, за наш актив,- говорил, и Ветерану по имени-отчеству: - Слово имеет Семен Петрович…"
Ветеран вставал и начинал читать по бумажке чужим голосом:
"Я предлагаю, товарищи, взять повышенные обязательства! Наша продукция всегда на столе у народа! Приложим усилия, чтобы она была в лучшем виде…"
Ага! В лучшем… Знал бы народ, что у него на столе. Хоть в простом хлебе, хоть в сдобной выпечке. Мы вертуты 13 пекли, булочки тоже пекли, и никто из народа с проверкой не приходил. Только начальники иногда. Два Степана их сиропом спиртовым поил. Они в цех даже не заходили. А в цеху на стене цифры висели: сколько масла положено в тесто, сколько яиц. Я цифры запомнила. На чан двадцать килограмм масла надо было положить. А они и пять не клали.
Смена начнется, Паша Гречиха говорит Ветерану:
"Петрович! Надо процентовку закладывать…"
Ветеран масла ящик в цех принесет. Вместе с Пашей на куски проволокой это масло нарежут - кусок в чан, по два куска себе.
"Сабина! Давай формы неси!.." - кричит Ветеран. А сам на двери поглядывает. Знал по часам, когда Два Степана должен прийти.
Приходил.
"Добрый вечер, товарищи. Как у вас с процентовкой?"
"В норме, Степан Степанович! Мы пекаря фронтовые",- хвастался Ветеран. А сам уже мешком пустым свою сумку обкутал и сверху уселся.
"В норме, значит? - переспрашивал Два Степана.- Проверим.- На палец тесто возьмет, на язык попробует, губы сморщит.- Да-а, норма соблюдена…" И пошел на свой склад себе "процентовку" резать. Сумка у него была, как два чемодана. Набьет полную и несет в свой "Москвич". Багажник закроет, а до дому до хаты не ехал. Ночь, день - на пекарне пасся. Паша Гречиха его жалела.
"Вы б отдохнули, Степан Степанович…"
"Нет, Паша! - вздыхал Два Степана.- Не могу. Домой приду, лягу спать, а сердце мое тут, с вами…"
Крепкое сердце имел. С утра сиропа спиртового из банок стеклянных пил. Лицо как бурак красным станет, глаза сплющит, пыхтит меж лотков, как кот сытый. Только работать мешает. Мне в цеху жарко было. Я ночью на воздух выйду. И он сбоку.
"Что, булочка, отдыхаешь? - И на небо кивал: - Глянь! Ваше солнышко светит. Ух, ух, как глазки блестят! Сколько живу, таких поджаристых глазок не видел…- Сядет рядышком, шею, лицо платком вытирает.- Душно,- жаловался.- Как душно…"
Мне смешно и жалко было его.
"Ты б, Степан Степаныч, поменьше кушал, не будет душно".
"Язычок у тебя. Язычо-ок! - жмурился в потемках Два Степана и хлопал себя по животу ладонью, как по бочке полной.- Что? Не нравлюсь, что толстый? Эге-е-е! Ничего ты не понимаешь. Хорошего человека должно быть всегда много… А? Слышишь, ягодка? - Ко мне наклонялся - потом от него тянуло, перегаром тянуло. Дышал, несчастный, как сом из воды, а туда же:-Дай я тебя поцелую в щечку, дай, булочка ты моя…"
Тошно мне становилось. Провалился бы ты совсем, чтоб не видеть только.
Оттолкну его от себя. Чую в спину уже другой голос. Как на собрании:
"Я бы тебе не советовал так с начальством обращаться. Ты кто? Ты без паспорта. Ты даже не штатная единица. На птичьих правах. Ты-есть. Но тебя нету. Так что давай по-хорошему…- И снова ко мне лез, снова шептал замороченным голосом: - Идем до меня в кабинет… Погадаешь мне на судьбу и разлуку… Идем, моя булочка сладкая… Не ломайся… С начальством надо жить тихо-мирно… А? Правильно я говорю?" - И губы свои слюнявые к моему уху тянул.
"Уйди от меня! - кричу.- Убери свои руки…"
Вырвусь. И в цех. На глазах у Паши Гречихи и Ветерана он из себя начальника строил, меня не трогал.
Работаю, хлеб на лотки складываю. Есть не хочу. Тошно мне от запаха этого хлеба.
Выйду под утро на зорьку. Стою замученная. Жалко себя. Одна я. Одна. И под луной, и под солнцем. Вон оно, уже всходит над крышами. Вон, люди в окнах, В тепле и в покое. Свое счастье за стенами прячут. Каждый свое. Сердце сожму. Зубы стисну. Бог мой! Ветер, тучи! Быстрее бегите по небу. Дайте мне до весны дожить. До тепла, до акации майской. Я на поезд сяду, в Одессу поеду! К морю поеду! Куда глаза мои смотрят поеду…
Не уехала. Богдана встретила. Богдана полюбила. Не думала раньше, что смогу полюбить. Не знала, что есть на свете любовь. Когда меня пьяный Васо пыкылимос сделал, я мертвая душой стала. Старой старухой стала. Умом жила - сердце, как ветка надломленная, было. Все видела, все понимала, слова разные слушала про любовь, когда ко мне приставали, а только словам не верила. Я ту ночь вспоминала, я знала, что за словами дальше будет, и тошно мне было. Трудно мне было. Все мне слова про любовь говорили. Молодые и старые, холостые, женатые - всякие. Я по улице пройти не могла. Мне вслед языками чмокали. Я себя в зеркало видела. Я волосы свои видела, и глаза, и кожу трогала, но забывала свое лицо. Мне больше обиды было, чем радости. Другие девушки - русские, молдаванки, хохлушки, не лучше меня были, и на них смотрели мужчины. Но не так смотрели. Их красоту уважали, их в кино приглашали, цветы им дарили, а мне гадости говорили. Я думала, что это так потому, что я видом цыганка. Я и другие наряды носила, юбку по моде носила, и кофточка у меня была заграничная. А только они все равно гадости говорили. Что у меня в лице есть такое, что мне можно гадости говорить? Чем я хуже молдаванок, хохлушек и русских?
Люди, люди! Молодые, старые, женатые и холостые - все про меня плохое думали.
А Богдан - нет. Богдан был не такой. Он мне как солнце горячее душу согрел. Сердце мое согрел. Я снова на свет родилась. Я все плохое, все гадкое от людей позабыла.
Не приставал он ко мне - нет. Он на пекарню по делу пришел. Два Степана его позвал. Я работала в день и увидела его из окна. Со спины сначала увидела. Он высокий был. В плаще был и в шляпе. Таких шляп никто не носил. Черная, поля широкие. Два Степана руками размахивал. Говорил что-то. А Богдан молчал, слушал. Он был как чужой, совсем чужой на пекарне. Он только слушал. Потом обернулся. Меня не увидел. На окна глянул. Один только раз глянул, а сердце мое, как уголек, загорелось. Бог мой! Бог! Что это? Что есть любовь? Когда слова говорят? Когда тебя за руку берут? Цветы дарят? Нет, нет! Любовь - это один взгляд, и твое сердце в огне. Пусть, пусть мое сердце сгорит, только чтобы он всю жизнь на меня глядел.
Один, один только раз на меня он глянул, а я про себя забыла. Мне Паша Гречиха что-то кричала, а я не слышала. Холодом жарким душу мою обожгло, когда я его увидела. Лицо у него было смуглое, волосы черные и усы. Я подумала, что он наш - щявале. Нет, нет, не щявале. Он мне потом рассказал, что мать его русской была, а отец молдаванин. И глаза у него были отцовские. Не черные, а как желудь спелый. Глянет раз на тебя и, кажется, все про тебя уже знает, всю твою душу, до самого чистого донышка знает. Скольким я людям судьбу гадала, скольким угадывала. А Богдана разгадать не могла. Пробовала. И линии у него на руке помню. Самая главная - жизни, до сорока лет доходит, а дальше обрыв, дальше две тоненькие тянутся, а с линией жизни не сходятся. Я боялась ему говорить об этом. Я о прошлом его гадать пробовала, тепло от ладони чуяла, сердце его горячее чуяла, а сказать ничего не могла. Будто не ему, а себе гадала. А самой себе доли-судьбы не нагадаешь. Нет, нет, себе самому никто еще не сумел нагадать. Потому что себе самому только счастья желаешь. Так, так, тебе говорю.