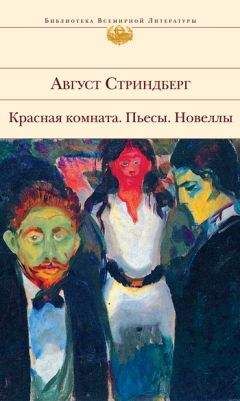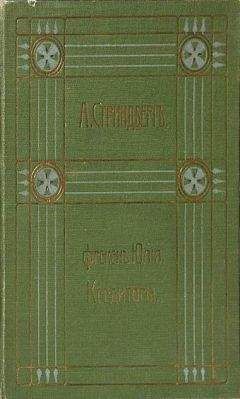Август Стриндберг - Том 1. Красная комната. Супружеские идиллии. Новеллы
Фальк пришел к Утиному пруду; там он остановился, изучая разновидности лягушек, наблюдал пиявок и поймал водяного жучка. Затем он занялся бросанием камешков в воду. Это привело его кровь в движение, и он почувствовал себя помолодевшим, даже мальчишкой, удравшим из школы, свободным, гордо свободным. Ибо это была свобода, купленная довольно большой жертвой. При мысли, что он свободен и свободно может общаться с природой, которую он понимал лучше, чем людей, только унижавших его и старавшихся сделать его дурным, он обрадовался, и вся тревога исчезла из его сердца; он встал, чтобы продолжать свой путь.
Он вышел на Северную Хмельную улицу. Там он увидел, что в заборе напротив выломано несколько досок и что дальше вытоптана тропинка. Он пролез сквозь отверстие и испугал старую женщину, собиравшую крапиву. Он пошел через большое табачное поле, где теперь была дачная колония, и очутился у дверей «Лилль-Янса» {28}.
Здесь весна действительно распустилась над маленьким красивым поселком с его тремя домиками среди цветущей сирени и яблонь, защищенными от северного ветра сосновым лесом, по ту сторону шоссе. Это была совершеннейшая идиллия. Петух сидел на оглобле водовозной тележки и пел; цепная собака валялась на солнце и ловила мух, пчелы тучей висели над ульями; садовник стоял на коленях возле парника и полол редиску; синицы и овсянки пели в крыжовнике; полуодетые дети отгоняли кур, которые стремились испытать всхожесть разных только что посеянных семян. Над всем простиралось светло-голубое небо, а позади чернел лес.
Около парников в тени забора сидели два человека. На одном была высокая черная шляпа, потертая черная одежда, лицо его было длинное, узкое и бледное, и он имел вид священника. Другой представлял собою тип цивилизованного крестьянина, с полным телом, с опущенными веками, монгольскими усами; он был плохо одет и был похож на кого угодно — на бродягу, на ремесленника или на художника; вид у него был обнищалый, но своеобразно обнищалый.
Худой, который, казалось, мерз, несмотря на то что солнце грело его, читал толстому что-то вслух по книге; у того был вид, как будто он испытал все климаты всей земли и все их переносит спокойно.
Худой читал сухим, монотонным голосом, лишенным всякого звука, а толстый от поры до времени выражал свое удовлетворение фырканьем, иногда превращавшимся в хрюканье, и, наконец, он отплевывался, когда слова мудрости, которые он слышал, превосходили обычную человеческую мудрость. Длинный читал:
— «Высших основоположений, как сказано, три: одно абсолютно необходимое и два относительно необходимых. Pro primo [1]: абсолютно первое, чисто безусловное основоположение должно выражать действие, лежащее в основе всякого сознания и делающее его возможным. Это основоположение — тождество: А = А. Оно неопровержимо и не может быть никоим образом устранено, если устранять все эмпирические определения сознания. Оно основной факт сознания и потому необходимо должно быть признанным; кроме того, оно не является условным, как всякое другое эмпирическое положение, но, как следствие и содержание свободного действия, оно безусловно…» {29} Понимаешь, Оле? — прервал чтец.
— О, это восхитительно! Оно не является условным, как всякое другое эмпирическое положение. О, какой человек! Дальше, дальше…
— «Если утверждать, — продолжал чтец, — что это положение достоверно без всякого дальнейшего основания…»
— Послушай-ка, какой мошенник: «достоверно без всякого дальнейшего основания», — повторил благодарный слушатель, хотевший тем стряхнуть с себя всякое подозрение в том, что он не понимает. — «Без всякого дальнейшего основания» — как тонко, вместо того чтобы сказать просто: «Без всякого основания».
— Продолжать мне? Или ты намерен прерывать меня еще часто? — спросил обиженный чтец.
— Я не буду тебя больше прерывать; дальше, дальше…
— Так, теперь заключение (действительно великолепно): «…если присваиваешь себе способность что-нибудь допустить…»
Оле фыркнул.
— «…то устанавливаешь этим не А (А-большое), а только то, что А = А, если и поскольку А вообще существует. Дело и идет не о содержании положения, но лишь о его форме. Положение А = А, таким образом, по содержанию своему условно (гипотетично) и лишь по форме своей безусловно». Обратил ли ты внимание на то, что это А — большое?
Фальк услышал достаточно; это была ужасно глубокая философия Уппсалы {30}, заблудившаяся до этих мест, чтобы покорить грубую натуру столичного жителя; он взглянул, не свалились ли куры с насеста и не прекратила ли свой рост петрушка, слушая самое глубокое, что когда-либо говорилось на человеческом языке в «Лилль-Янсе». Он был удивлен, что небо еще на своем месте, несмотря на то что оно было свидетелем такого испытания мощи человеческого духа. Одновременно с этим его низменная человеческая природа стала настаивать на своих правах: он почувствовал, что его горло пересохло, и решил зайти в одну из хижин и попросить стакан воды.
Он повернулся и подошел к тому дому, который стоит направо от дороги, если идти от города. Дверь большой комнаты, когда-то бывшей кухней, была открыта в сени, которые были не больше чемодана. В комнате находились нары, сломанный стул, мольберт и двое мужчин. Один из них стоял перед мольбертом, одетый только в рубашку и брюки, которые поддерживались пояском. Он был похож на подмастерье, но был художником, так как писал эскиз к алтарной картине. Другой был молодой человек с тонкими чертами и в действительно изящном, в сравнении с комнатой, костюме. Он снял сюртук, завернул рубашку и служил теперь художнику натурщиком. Его красивое благородное лицо носило следы бурно проведенной ночи, и время от времени он поникал головой; но этим он навлекал на себя упреки художника, который, казалось, взял его под свое покровительство. Фальк, входя в сени, как раз услыхал заключительные аккорды такого выговора:
— Как ты можешь быть такой свиньей, чтобы ходить пьянствовать с этим гулякой Селленом! Теперь ты тут теряешь утро, вместо того чтобы быть в торговой школе! Правое плечо несколько выше! Так! Ужели же ты прокутил всю квартирную плату, так что не осмеливаешься идти домой? У тебя ничего больше нет? Ни следа больше?
— О, кое-что у меня есть, но этого ненадолго хватит.
Молодой человек достал бумажку из своего кармана и развернул ее, это оказались две кроны.
— Дай сюда, я спрячу их, — сказал художник и отечески взял их себе.
Фальк, тщетно старавшийся дать себя заметить, счел за лучшее уйти так же незаметно, как пришел. Он опять прошел мимо двух философов и повернул налево. Он недалеко прошел, когда заметил молодого человека, поставившего мольберт перед маленьким, поросшим ветлами обрывом, там, где начинался лес. Это была тонкая, стройная, изящная фигура с острым темным лицом; все его существо было исполнено сверкающей жизни, когда он стоял перед красивой картиной и работал. Он снял шляпу и сюртук и, казалось, чувствовал себя прекрасно и был в отличном настроении. То он свистел, то напевал что-то, то разговаривал сам с собою.
Когда Фальк подошел так близко, что он увидел его профиль, тот обернулся:
— Селлен! Здорово, старый приятель!
— Фальк? Старые знакомые в лесу! Что это значит, бога ради? Разве ты в это время дня не бываешь в своем бюро?
— Нет! А ты разве живешь здесь?
— Да, я первого апреля переселился сюда с несколькими знакомыми; жить в городе стало слишком дорого, да и хозяева так несносны!
Лукавая улыбка заиграла в уголках губ, карие глаза заблестели.
— Так, — заговорил опять Фальк, — тогда ты, может быть, знаешь тех, что сидели там, у парников, и что-то изучали?
— Конечно. Длинный — сверхштатный в аукционном присутствии на восемьдесят крон в год, а короткий — Оле Монтанус, должен был бы, в сущности, сидеть дома и быть скульптором. Но с тех пор, как он с Игбергом добрел до философии, он перестал работать и теперь быстро идет назад. Он уверяет, что скульптура есть нечто чувственное!
— Но чем же он живет?
— В сущности, ничем! Иногда он позирует практичному Лунделю, и тот дает ему за это кусок хлеба с колбасой; а потом, зимой, он может валяться у него на полу, ибо это все же несколько греет, говорит Лундель, так как дрова дороги; а здесь было очень холодно в апреле.
— Как может он позировать, ведь он выглядит как Квазимодо?
— На «Снятии с креста» он изображает того разбойника, кости которого уже сломаны; если он свешивается через спинку стула, то это выходит очень хорошо. Иногда ему приходится обращаться спиной к художнику, и тогда он — второй разбойник.
— Почему же он сам ничего не делает? Разве у него нет таланта?
— Оле Монтанус, дорогой мой, гений, но он не хочет работать; он философ и стал бы великим человеком, если бы он только мог учиться. Поистине замечательно слушать, когда он толкует с Игбергом. Конечно, Игберг больше читал, но у Монтануса такая голова, что он порой просто ставит его в тупик; тогда Игберг уходит и продолжает читать; но никогда не дает Монтанусу своей книги.