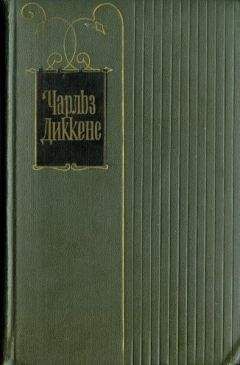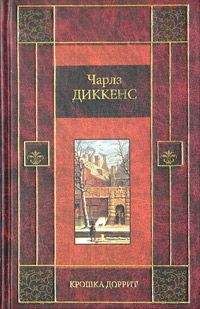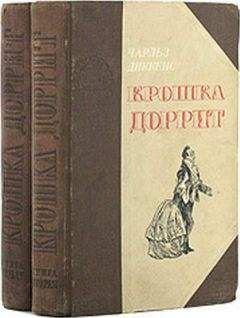Чарльз Диккенс - Крошка Доррит. Книга 2. Богатство
Главный дворецкий, невозмутимый и холодный, как всегда, ответил на это следующими достопамятными словами:
— Сэр, мистер Мердль никогда не был джентльменом, и никакой неджентльменский поступок со стороны мистера Мердля не может меня удивить. Прикажете послать вам кого-нибудь или отдать какие-нибудь распоряжения, прежде чем я оставлю этот дом?
Вернувшись к адвокатуре, доктор сообщил ей в двух словах, что не рассказал всего миссис Мердль, а к тому, что рассказал, она отнеслась довольно спокойно. В ожидании доктора адвокатура измыслила остроумнейшую ловушку для присяжных. Покончив с этим делом, она могла заняться недавней катастрофой, и оба тихонько пошли домой, обсуждая ее с разных точек зрения. Прощаясь у докторского подъезда, они взглянули на ясное небо, к которому мирно поднимались струйки дыма из немногих затопленных печей и голоса немногих рано поднявшихся горожан, затем оглянулись на громадный город и подумали: «Если бы все эти сотни и тысячи спящих людей могли узнать в настоящую минуту о постигшем их разорении, какой ужасный хор проклятий негодяю поднялся бы к небесам!».
Слух о смерти великого человека распространился с изумительной быстротой. Сначала оказалось, что он скончался от всех известных доселе болезней и нескольких новых, изобретенных специально для данного случая. У него с детства была водянка, он унаследовал расположение к ней от деда, ему каждое утро в течение восемнадцати лет делали операцию, у него то и дело происходили разрывы важных сосудов, лопавшихся, как ракеты, его легкие были не в порядке, его сердце было не в порядке, его мозг был не в порядке. Пятьсот человек, которые сели за завтрак, ничего не зная об этом деле, к концу завтрака были уверены, будто сам доктор сообщил им лично в конфиденциальной беседе, как он сказал мистеру Мердлю: «Смотрите, в один прекрасный день вы погаснете разом, как свечка», — а мистер Мердль отвечал. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать!». Часам к одиннадцати гипотеза о какой-то болезни мозга одержала верх над остальными, а в полдень «какая-то болезнь» превратилась в «несомненный паралич».
Паралич мозга до того пришелся по вкусу публике, что, по всей вероятности, продержался бы весь день, если бы адвокатура не рассказала в половине десятого в суде о том, как было дело. Вследствие этого начала передаваться из уст в уста весть о самоубийстве мистера Мердля и к часу пополудни облетела весь город. Теория паралича, однако, не потеряла кредита, — напротив, утвердилась прочнее, чем когда-либо. На всех перекрестках морализировали по поводу паралича. Люди, пытавшиеся нажить деньги, но не сумевшие сделать этого, говорили: «Вот оно как! Вот что значит отдаться наживе, сейчас же схватишь паралич мозга!». Лентяи оборачивали этот случай в свою пользу: «Видите, — говорили они, — вот что значит работать, работать, работать! Заработаешься, переутомишься, хвать — паралич мозга, и был таков!». Эти соображения высказывались в самых разнообразных кругах, но главным образом среди младших клерков и пайщиков, никогда не подвергавшихся именно этого рода опасности. Они все до единого заявляли, что до конца дней своих не забудут этого предостережения и будут вести свои дела так, чтобы избежать паралича мозга и прожить долгие годы на утешение друзьям.
Но ко времени открытия биржи паралич куда-то стушевался, и зловещие слухи распространились по всем румбам компаса. Сначала они передавались вполголоса и не шли дальше сомнений, точно ли богатство мистера Мердля так велико, как говорили, не представится ли временного затруднения «реализовать» его, не приостановятся ли даже на короткое время (например, на месяц или около того) платежи удивительного банка? Чем громче раздавались слухи, — а они становились громче с минуты на минуту, — тем более грозный характер они принимали. Откуда взялся мистер Мердль, каким путем он поднялся из ничего на такую высоту — этого никто не мог объяснить. Вспомнили, что он был в сущности грубый невежда, что он никогда никому не взглянул прямо в глаза, что доверие, которым он пользовался со стороны такой массы людей, было совершенно непостижимо, что у него никогда не было собственного капитала, что предприятия его были страшно рискованны, а расходы колоссальны. Мало-помалу к концу дня слухи приняли определенный характер. Он оставил письмо доктору, доктор получил его, завтра оно будет передано следователю, и громовой удар разразится над множеством людей, им обманутых. Масса людей всевозможных профессий и занятий разорена дотла его банкротством; старики, прожившие весь свой век в довольстве, будут каяться в своем легковерии в работном доме; легионы женщин я детей осуждены на жалкую будущность по милости этого чудовищного негодяя. Каждый, кто пировал за его пышным столом, окажется его соучастником в разорении бесчисленных семейств; каждый раболепный поклонник золотого тельца, помогавший возвести его на пьедестал, должен будет сознаться, что лучше бы ему было служить дьяволу. И слухи, раздаваясь всё громче и громче, подкрепляемые все новыми и новыми данными, подтвержденные в вечерних газетах, превратились к ночи в такой страшный рев, что, казалось, наблюдатель, взобравшийся на колокольню св. Павла, мог бы видеть оттуда, как воздух содрогается от имени Мердля и сопровождающих его проклятий.
К этому времени узнали, что болезнь покойного мистера Мердля была попросту плутовство и мошенничество. Он, предмет всеобщего и необъяснимого поклонения, почетный гость на пирах великих мира сего, феникс, украшавший собой вечера великосветских дам, победитель сословных предрассудков, укротитель аристократической гордости, патрон из патронов, торговавшийся из-за титула с главой министерства околичностей, получивший за десять-пятнадцать лет больше отличий, чем их досталось за два столетия скромным благодетелям общества — столпам науки и искусства, за которых свидетельствовали их произведения, он, восьмое чудо света, новая звезда, за которой шли с дарами новые волхвы, пока она не остановилась над трупом в мраморной ванне и не погасла, он был попросту величайший плут и величайший мошенник, какой когда-либо ускользал от виселицы.
ГЛАВА XXVI
Следы урагана
Возвещая о себе шумным дыханием и громким топотом ног, мистер Панкс ворвался в контору Артура Кленнэма. Следствие было закончено, письмо опубликовано, банк лопнул, другие соломенные сооружения вспыхнули и превратились в дым. Прославленный пиратский корабль взлетел на воздух среди целого флота кораблей и шлюпок всех рангов и размеров, и на море ничего не было видно, кроме пылающих обломков корпуса, пороховых погребов, взлетающих на воздух, пушек, стреляющих без людей и разрывающих на клочки своих и чужих, утопающих пловцов, выбивающихся из сил, трупов и акул.
Обычного порядка в мастерской и в помине не было. Нераспечатанные письма, нерассортированные бумаги валялись грудами на столе. Среди этих явных признаков подорванной энергии и утраченных надежд хозяин конторы сидел на своем обычном месте, скрестив руки на столе и опустив на них голову.
Мистер Панкс ворвался в контору, взглянул на Кленнэма и остановился. Спустя минуту руки мистера Панкса тоже лежали на столе, голова мистера Панкса также лежала на руках, и так они просидели несколько минут, молча и не двигаясь, разделенные пространством маленькой комнаты.
Мистер Панкс первый поднял голову и заговорил:
— Это я уговорил вас, мистер Кленнэм, я. Говорите, что хотите. Вы не можете ругать меня сильнее, чем я сам себя ругаю, не можете выругать сильнее, чем я того заслуживаю.
— О Панкс, Панкс, — возразил Кленнэм, — что вы говорите! А я чего заслуживаю?
— Лучшей участи, — сказал Панкс.
— Я, — продолжал Кленнэм, не обращая внимания на его слова, — я, который разорил своего компаньона! Панкс, Панкс, я разорил Дойса, честного, работящего, неутомимого старика, который всю жизнь пробивал себе дорогу своим трудом, человека, который испытал столько разочарований и сохранил живой и бодрый дух, человека, которому я так сочувствовал, которому надеялся быть верным и полезным помощником, — и разорил его, навлек на него стыд и позор, разорил, разорил его!
Душевная мука, изливавшаяся в этих словах, была так ужасна, что Панкс схватился за волосы и рвал их в совершенном отчаянии.
— Ругайте меня! — восклицал он. — Ругайте меня, сэр, или я что-нибудь сделаю над собой. Говорите: дурак, мерзавец! Говорите: осел, как тебя угораздило пойти на такое дело, животное, что ты затеял? Задайте мне перцу! Скажите мне что-нибудь оскорбительное!
В течение всего этого времени мистер Панкс беспощадно терзал свои жесткие волосы.
— Если бы вы не поддались этой роковой мании, Панкс, — сказал Кленнэм скорее с состраданием, чем с упреком, — было бы гораздо лучше для вас и для меня.