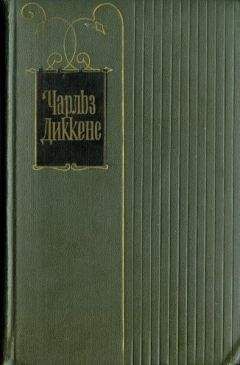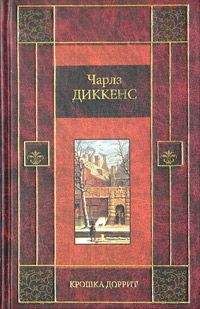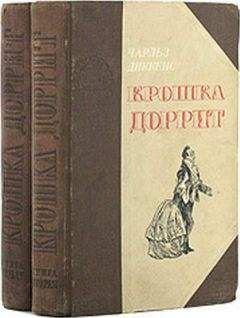Чарльз Диккенс - Крошка Доррит. Книга 2. Богатство
Величайший ум нашего века, верный своей репутации человека с малым запасом слов для собственного употребления, снова умолк. Миссис Спарклер спросила себя, долго ли намерен просидеть у них величайший ум нашего века.
— Я вспоминала о бедном папе, когда вы пришли, сэр.
— Да? Удивительное совпадение, — сказал Мердль.
Фанни не видела тут никакого совпадения, но, чувствуя себя обязанной занимать гостя, продолжала:
— Я говорила, что вследствие болезни моего брата затянулось устройство дел папы.
— Да, — сказал мистер Мердль, — да, затянулось.
— Но ведь это ничего не значит?
— Нет, — согласился мистер Мердль, осмотрев карниз комнаты, насколько это было возможно для него, — нет, это ничего не значит.
— Я об одном только хлопочу, — сказала Фанни, — чтобы миссис Дженераль ничего не получила.
— Она ничего не получит, — сказал мистер Мердль.
Фанни была в восторге, что он так думает.
Мистер Мердль снова заглянул в шляпу, точно увидел что-нибудь на дне ее, и, почесав в затылке, медленно прибавил:
— О конечно, нет, нет, ничего не получит наверняка.
Так как эта тема, повидимому, истощилась и мистер Мердль — тоже, то Фанни спросила, чтобы поддержать разговор, намерен ли он зайти за миссис Мердль и вместе с нею вернуться домой.
— Нет, — отвечал он, — я возвращусь кратчайшим путем, а миссис Мердль, — он внимательно осмотрел ладони, точно старался угадать собственную судьбу, — вернется одна. Она и одна справится.
— Вероятно, — сказала Фанни.
Наступила продолжительная пауза, в течение которой миссис Спарклер полулежала на кушетке, попрежнему закрыв глаза и подняв брови с прежним выражением отречения от всего земного.
— Однако я задерживаю вас и себя, — оказал мистер Мердль. — Мне, знаете, вздумалось навестить вас.
— Я очень рада, — отозвалась Фанни.
— Ну, так я пойду, — сказал мистер Мердль. — Heт ли у вас перочинного ножа?
Странно, — заметила миссис Спарклер с улыбкой, — что ей, которая редко может заставить себя написать письмо, приходится ссужать перочинным ножом такого делового человека, как мистер Мердль.
— Да? — заметил мистер Мердль. — Но мне понадобился перочинный ножик, а вы, я знаю, получили много свадебных подарков, разных мелких вещиц, ножниц, щипчиков и тому подобное. Он будет возвращен вам завтра.
— Эдмунд, — сказала миссис Спарклер, — открой (только, пожалуйста, осторожнее, ты такой неловкий) перламутровый ящичек на том маленьком столике и дай мистеру Мердлю перламутровый ножичек.
— Благодарю вас, — сказал мистер Мердль, — но нет ли у вас с темным черенком, я бы предпочел с темным черенком.
— С черепаховым?
— Благодарю вас, да, — сказал мистер Мердль, — позвольте с черепаховым.
Эдмунд получил приказание открыть черепаховый ящичек и передать мистеру Мердлю черепаховый ножичек. Когда он исполнил это приказание, его супруга шутливо сказала величайшему уму нашего века:
— Можете даже запачкать его чернилами, я заранее вас прощаю.
— Постараюсь не запачкать, — оказал мистер Мердль.
Мистер Мердль пришел за ножичком.
Затем блистательный посетитель протянул свой обшлаг, в котором на мгновение исчезла рука миссис Спарклер со всеми кольцами и браслетами. Куда девалась его рука — осталось невыясненным, но во всяком случае миссис Спарклер даже не почувствовала ее прикосновения, точно прощалась с каким-нибудь заслуженным калекой.
Чувствуя после его ухода, что длиннейший день, какие только когда-нибудь случались, пришел-таки к концу и что не бывало еще женщины, не лишенной привлекательности, которую бы так мучили олухи и идиоты, как ее, Фанни вышла на балкон подышать свежим воздухом. Слезы досады выступили на ее глазах, и вследствие этого знаменитый мистер Мердль завертелся на улице, выделывая такие прыжки, скачки и пируэты, точно в него вселилась дюжина чертей.
ГЛАВА XXV
Главный дворецкий слагает знаки своего достоинства
Великий врач давал званый обед. К обеду явилась адвокатура в полном блеске. Явился Фердинанд Полип, и был милее, чем когда-либо. Немногие из житейских путей были скрыты от доктора, и ему случалось бывать в таких мрачных закоулках, куда не заглядывал даже и епископ. Многие блестящие лондонские леди, положительно влюбленные в этого очаровательного человека, были бы шокированы его присутствием, если бы узнали, на каких картинах останавливались эти задумчивые глаза час или два назад и в каких вертепах, около чьих кроватей стояла эта спокойная фигура. Но доктор был спокойный человек, который не любил ни трубить о себе в трубы, ни заставлять трубить других. Много удивительных вещей довелось ему видеть и слышать, вся жизнь его проходила среди непримиримых нравственных противоречий, но его беспристрастное сострадание было так же невозмутимо, как милосердие божественного врача всех недугов. Он являлся, как дождь небесный, одинаково к праведным и грешным и делал всё то добро, которое мог сделать, не возвещая об этом на всех перекрёстках.
Человек с такими знаниями и опытом, как бы он ни был сдержан, не может не быть интересным. Даже изящнейшие джентльмены и леди, которые отдаленнейшего понятия не имели о его тайнах, и которые, если бы он сказал им: «Пойдемте, посмотрите то, что приходится видеть мне!», пришли бы в ужас от этого чудовищного предложения, — даже они признавали его интересным. Он приносил с собой правду жизни всюду, куда ни являлся. А крупица правды, подобно некоторым другим, не вполне естественным продуктам, придает вкус и цвет огромному количеству раствора безвкусицы.
Вследствие этого на небольших обедах доктора люди являлись всегда в наименее искусственном свете. Сознательно или инстинктивно, у гостей являлась мысль: «Вот человек, который знает нас такими, каковы мы есть, видит многих из нас ежедневно без париков и без румян, читает наши тайные мысли и замечает скрытое выражение наших лиц: нам незачем притворяться перед ним, потому что всё равно он раскусит нас». И вот с гостями доктора, когда они попадали за его круглый стол, совершалось удивительное превращение: они становились почти естественными.
Суждения адвокатуры о скоплении присяжных, называемом человечеством, были остры, как бритва; но бритва — не всегда удобный инструмент, и простой светлый скальпель доктора, хотя далеко не такой острый, годился для более широких целей. Адвокатура была хорошо знакома с преступностью и подлостью людей, но доктор за одну неделю мог бы лучше ознакомить ее с их добрыми и нежными чувствами, чем Вестминстерская палата[62] и все судебные округа за полстолетия. Адвокатура всегда подозревала это и, может быть, радовалась этому (так как если бы мир действительно представлял огромную судебную палату, то можно было бы пожелать скорейшего наступления великого судного дня), поэтому она любила и уважала доктора, как и все остальные.
За отсутствием мистера Мердля один стул оставался пустым, как стул Банко[63], но так как его присутствие было бы равносильно присутствию призрака, то никто о нем не пожалел. Адвокатура, вечно подбиравшая обрывки и клочки новостей из Вестминстерской палаты, как делала бы ворона, если бы была на ее месте, собрала в последний раз несколько соломинок и рассыпала их перед гостями, стараясь выведать, куда дует ветер в отношении мистера Мердля. Она решилась поговорить об этом с самой миссис Мердль и проскользнула к ней со своим лорнетом и поклоном присяжным.
— Некая птичка, — начала адвокатура, всем своим видом показывая, что эта птичка была сорокой, — прощебетала нам, юристам, что число титулованных особ в этом королевстве вскоре увеличится.
— В самом деле? — спросила миссис Мердль.
— Да, — сказала адвокатура. — Разве птичка не прощебетала об этом в другое ушко, совсем не похожее на наши, в прелестное ушко? — Она выразительно взглянула на серьгу миссис Мердль.
— Вы подразумеваете мое ухо? — спросила миссис Мердль.
— Говоря — прелестное, — отвечала адвокатура, — я всегда подразумеваю вас.
— Но никогда не думаете этого искренно, — возразила миссис Мердль (не без удовольствия, впрочем).
— О, какая жестокая несправедливость! — сказала адвокатура. — Так как же насчет птички?
— Я всегда последняя узнаю новости, — заметила миссис Мердль. — О ком вы говорите?
— Какая великолепная свидетельница вышла бы из вас! — воскликнула адвокатура. — Никакой состав присяжных (разве только если бы набрали слепых) не устоял бы против вас, хотя бы вы давали ложные показания, но вы всегда будете стоять за правду.
— Почему это, несносный человек? — спросила миссис Мердль, смеясь.