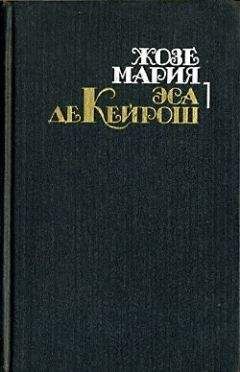Жозе Эса де Кейрош - Преступление падре Амаро
– А ведь правда, – говорила дона Мария, ликуя, – здесь нашему голубчику падре Амаро было бы уютно? Все небо под рукой!
Обе сеньоры с ней согласились. Конечно, она-то может устроить свой дом с подобающим благочестием, у нее есть на это деньги…
– Не спорю, сюда вложена не одна сотня мильрейсов. Конечно, не считая ковчежца…
О, знаменитый ковчежец из сандала, обитый внутри атласом! Там хранилась подлинная щепка от креста господня, шип с тернового венца, обрывок пеленки младенца Христа. И многие благочестивые дамы роптали, намекая не без яда, что столь драгоценные реликвии божественного происхождения следовало бы изъять из частного владения и хранить в соборе. Поэтому дона Мария, опасаясь, что сеньор декан узнает о ее серафических сокровищах, показывала их только самым близким друзьям, да и то под большим секретом. Святой служитель Божий, добывший для нее эти ценные предметы, заставил ее поклясться на Евангелии, что она никому не откроет их происхождения, «чтоб не было лишних разговоров»!
Сан-Жоанейра, как всегда, особенно умилилась на пеленку младенца Христа.
– Какая святая вещь! Какая дивная реликвия! – бормотала она.
Дона Мария отвечала почти шепотом:
– Лучшей нет на свете. Она обошлась мне в тридцать мильрейсов… Но я отдала бы и все шестьдесят! И даже сто! Я за нее все бы отдала! – И, расчувствовавшись над драгоценной тряпицей, старуха слезливо сюсюкала: – Ах ты моя пеленочка! Ах ты младенчик, это твоя пеленочка…
Она запечатлела на лоскутке истовый поцелуй и заперла ковчежец в ящик комода.
Но близился полдень – и все три дамы поспешили в собор, чтобы успеть занять хорошие места перед главным алтарем.
На площади они встретили дону Жозефу Диас; стосковавшись душой по церковной службе, она бежала почти бегом. Мантилья у нее сбилась на одно плечо, перо на шляпке грозило оторваться. Все утро ругалась с прислугой! Пришлось самой готовить обед!.. Ах, я так разнервничалась! Боюсь, даже месса уж не даст той благодати… Сегодня служит соборный настоятель. Да, знаете? У него кухарка слегла. Ах, чуть не забыла: братец просит тебя, Амелия, прийти к нам обедать. Тогда, говорит, будут две дамы и два кавалера.
Амелия засмеялась от радости.
– А ты, Сан-Жоанейра, зайди за ней попозже вечерком… фу-ты господи, оделась на скорую руку! Теперь юбка падает!
Когда четыре сеньоры вошли в церковь, там было уже полно народу. Служили мессу с певчими.
В епархии, вразрез с обычаем и вопреки мнению падре Силверио, любившего соблюдать все правила литургии, допускалась игра на скрипке, виолончели и флейте при вынесении святых даров. Пышно убранный и уставленный священными реликвиями алтарь блистал праздничной белизной; покровы и балдахин, а также обложки Богослужебных книг были белые, с украшениями из матового золота; в вазах стояли пирамидальные букеты белых цветов; белые бархатные пологи осеняли дарохранительницу как бы двумя распростертыми крыльями, напоминая изображение голубя святого духа. Из двадцати подсвечников вздымалось двадцать желтых языков пламени, служивших как бы постаментом для открытой дарохранительницы, а в ней высоко, на всем виду, в оправе из ярко сверкавшей позолоты виднелась круглая коричневая облатка. В переполненной церкви ходили медлительные волны шепота и шороха. То там, то здесь слышалось покашливание, раздавался детский плач. Воздух уже был несвеж от дыханья толпы и запаха ладана. С хоров, где фигуры музыкантов бесшумно мелькали в просветах между грифами виолончелей и пюпитрами, то и дело доносились стоны настраиваемых скрипок или тонкий голос флейты. Не успели четыре приятельницы устроиться поблизости от главного алтаря, как двое прислужников – один прямой, как сосна, другой толстый и грязноватый – появились из ризницы, высоко неся в вытянутых руках два священных светильника; позади них кривой Пимента, в слишком широком для него стихаре, нес серебряную кадильницу, мерно топая сапогами; прихожане опустились на колени; под шорох одежды и шелест молитвенников появились два диакона – сначала один, потом другой и, наконец, в белом облачении, опустив глаза и молитвенно сложив ладони – в той смиренной позе, которая, по литургии, выражает кротость Иисуса, идущего на Голгофу, – вышел падре Амаро, еще весь красный после стычки с пономарем из-за плохо выстиранной ризы.
В тот же миг хор грянул «Introito».[119]
Амелия простояла всю мессу как в тумане, поглощенная созерцанием соборного настоятеля. И действительно, он был, по выражению каноника, великим мастером служить торжественную мессу. Весь клир, все дамы были того же мнения. Сколько достоинства, сколько благородства в поклонах диаконам! Как красиво простирался он ниц перед алтарем, полный покорности и смирения, чувствуя себя пеплом, прахом перед лицом Бога, который присутствует тут, совсем рядом, в окружении кортежа святых и своего праведного семейства! Но особенно хорош был падре Амаро, когда совершал обряд благословения: медленно-медленно проведя руками над алтарем, он как бы ловил в воздухе и собирал пальцами благодать, исходящую от незримого присутствия Христа, и потом широким, полным благоволения жестом разбрасывал ее на склоненные головы по всему нефу, вплоть до самого дальнего конца церкви, где теснился с палками в руках деревенский люд и глазел, не мигая, на сверкающую дарохранительницу! В такие моменты Амелия вся изнемогала от любви; она думала о том, что совсем недавно эти благословляющие руки страстно сплетались под столом с ее руками, а тот самый голос, который шептал ей «милая», теперь произносит дивные молитвы и звучит прекрасней, чем стоны скрипок и глубокое гуденье органа! И она с гордостью говорила себе, что все женщины любуются им; но как истинно набожная душа она знала притягательную силу неба и ревновала только к Богу, особенно в те минуты, когда падре Амаро неподвижно замирал перед алтарем в экстатической позе, предписанной правилами литургии, будто душа его унеслась далеко, ввысь, в сферу вечности и невозмутимого покоя. Правда, он казался ей человечней и доступней и потому больше нравился, когда во время «Kyrie»[120] или при чтении «Апостола» садился вместе с диаконами на обитую красной камкой скамью; в такие минуты ей хотелось, чтобы он взглянул на нее. Но падре Амаро сидел скромно и благолепно, не поднимая глаз.
Стоя на коленях, Амелия с безотчетной улыбкой на губах любовалась его стройной фигурой, красиво посаженной головой, золотым шитьем на облачении и вспоминала тот день, когда впервые увидела его: с сигаретой в руке он спускался по их лестнице. Сколько перемен совершилось за это время! Она вспомнила Моренал, прыжок через изгородь, смерть тетеньки, поцелуй в кухне… Ах, что-то будет? Она хотела помолиться, листала Часослов, но ей вспоминался утренний разговор с Либаниньо: «У сеньора падре кожа такая белая, нежная, ну прямо тебе архангел…» Наверно, это правда… Страстное томление сжигало ее; боясь, что это происки дьявола, она старалась отогнать искушение и переводила глаза на дарохранительницу, на кафедру, где падре Амаро, между двумя диаконами, курил ладаном, описывая кадильницей широкие полукружия – символ ночной хвалы, – между тем как Хор громко гудел: «Тебе Бога хвалим». А потом кадили ему самому, и он стоял, сложив ладоши, на второй ступеньке алтаря. Кривой Пимента бодро скрипел серебряными цепями кадила; аромат ладана разливался по церкви, как небесный благовест; дарохранительница тонула в белых клубах дыма, и падре Амаро казался Амелии нечеловечески прекрасным, почти Богом!.. О, как она его обожала!
Вся церковь содрогалась от органного форте; разинув рты, хористы натужно выводили божественный мотив; наверху, возвышаясь над грифами альтов, капельмейстер в жару вдохновения неистово взмахивал рулоном нот, который служил ему дирижерской палочкой.
Амелия вышла из церкви бледная от изнеможения.
За обедом у каноника дона Жозефа все время выговаривала ей за то, что она «словно язык проглотила».
Она молчала, но под столом ее маленькая ножка беспрестанно искала и жала ногу падре Амаро. Стемнело рано, и они сидели при свечах; каноник распечатал новую бутылку, только не знаменитого «Герцогского 1815», а другого вина, «1847 года», чтобы достойно запить красовавшуюся посередине стола запеканку из вермишели с инициалами падре Амаро, выложенными корицей. Как объяснил каноник, это знак внимания дорогому гостю от сестрицы Жозефы. Амаро сейчас же поднял бокал за здоровье хозяйки. Та сияла. В своем зеленом барежевом платье она была особенно уродлива. Такая неприятность: именно сегодня обед испорчен. Лентяйка Жертруда совсем распустилась… Чуть не сожгла утку с макаронами!
– О милая сеньора, утка была превосходная! – протестовал падре Амаро.
– Вы слишком добры, сеньор настоятель. Слава Богу, я вовремя подоспела… Еще немного запеканки?