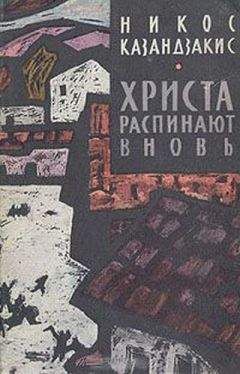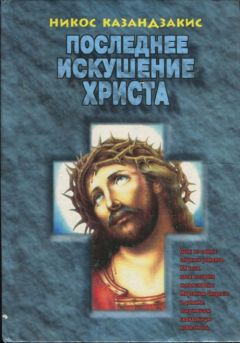Максим Горький - Жизнь Клима Самгина (Сорок лет). Повесть. Часть третья
– Глупость какая! – пренебрежительно сказала она. – Что же они – следили за его встречами с женщинами?
В этих словах Самгину послышалась нотка цинизма. Духовное завещание было безукоризненно с точки зрения закона, подписали его солидные свидетели, а иск – вздорный, но все-таки у Самгина осталось от этого процесса впечатление чего-то необычного. Недавно Марина вручила ему дарственную на ее имя запись: девица Анна Обоимова дарила ей дом в соседнем губернском городе. Передавая документ, она сказала тем ленивым тоном, который особенно нравился Самгину:
– Кажется, в доме этом помещено какое-то училище или прогимназия, – ты узнай, не купит ли город его, дешево возьму!
– Что это – всё дарят, завещают тебе? – шутливо спросил он. Она небрежно ответила:
– Значит – любят. – Подумав, она сказала: – Нет, о продаже не заботься, я Захара пошлю.
Девица Анна Обоимова оказалась маленькой, толстенькой, с желтым лицом и, видимо, очарованной чем-то: в ее бесцветных глазах неистребимо застыла мягкая, радостная улыбочка, дряблые губы однообразно растягивались и сжимались бантиком, – говорила она обо всем вполголоса, как о тайном и приятном; умильная улыбка не исчезла с лица ее и тогда, когда девица сообщила Самгину:
– А брат и воспитанник мой, Саша, пошел, знаете, добровольцем на войну, да по дороге выпал из вагона, убился.
Ей было, вероятно, лет пятьдесят; затянутая в шерстяное платье мышиного цвета, гладко причесанная, в мягких ботинках, она двигалась осторожно, бесшумно и вызывала у Самгина вполне определенное впечатление – слабоумная.
Около нее ходил и ворковал, точно голубь, тощий лысоватый человек в бархатном пиджаке, тоже ласковый, тихий, с приятным лицом, с детскими глазами и темной аккуратной бородкой.
– А это – племянник мой, – сказала девица.
– Донат Ястребов, художник, бывший преподаватель рисования, а теперь – бездельник, рантье, но не стыжусь! – весело сказал племянник; он казался немногим моложе тетки, в руке его была толстая и, видимо, тяжелая палка с резиновой нашлепкой на конце, но ходил он легко. Таких людей Самгин еще не встречал, с ними было неловко, и не верилось, что они таковы, какими кажутся. Они очень интересовались здоровьем Марины, спрашивали о ней таинственно и влюбленно и смотрели на Самгина глазами людей, которые понимают, что он тоже все знает и понимает. Жили они на Малой Дворянской, очень пустынной улице, в особняке, спрятанном за густым палисадником, – большая комната, где они приняли Самгина, была набита мебелью, точно лавка старьевщика.
Пришел Захарий – озабоченный, потный. Ястребов подбежал к нему, спрашивая торопливо:
– Ну, что, что?
– Взятку надобно дать, – устало сказал Захарий.
– Взяточку, – слышите, Аннушка? Взяточку просят, – с радостью воскликнул Ястребов. – Значит, дело в шляпе! – И, щелкнув пальцами, он засмеялся сконфуженно, немножко пискливо. Захарий взял его под руку и увел куда-то за дверь, а девица Обоимова, с неизменной улыбкой покачав головой, сказала Самгину:
– Все такие жадные, что даже стыдно иметь что-нибудь...
Самгин зашел к ней, чтоб передать письмо и посылку Марины. Приняв письмо, девица поцеловала его и все время, пока Самгин сидел, она держала письмо на груди, прижав его ладонью против сердца.
«Что значат эти подарки со стороны каких-то слабоумных людей?» – размышлял Самгин.
Он был не очень уверен в своей профессиональной ловкости и проницательности, а после визита к девице Обоимовой у него явилось опасение, что Марина может скомпрометировать его, запутав в какое-нибудь темное дело. Он стал замечать, что, относясь к нему все более дружески, Марина вместе с тем постепенно ставит его в позицию служащего, редко советуясь с ним о делах. В конце концов он решил серьезно поговорить с нею обо всем, что смущало его.
К этой неприятной для него задаче он приступил у нее на дому, в ее маленькой уютной комнате. Осенний вечер сумрачно смотрел в окна с улицы и в дверь с террасы;
в саду, под красноватым небом, неподвижно стояли деревья, уже раскрашенные утренними заморозками. На столе, как всегда, кипел самовар, – Марина, в капоте в кружевах, готовя чай, говорила, тоже как всегда, – спокойно, усмешливо:
– Если б столыпинскую реформочку ввели в шестьдесят первом году, ну, тогда, конечно, мы были бы далеко от того места, где стоим, а теперь – что будет? Зажиточному хозяину руки развязаны, он отойдет из общины в сторонку и оттуда даже с большим удобством начнет деревню сосать, а она – беднеть, хулиганить. Значит, милый друг, надобно фабричный котел расширять в расчете на миллионы дешевых рук. Вот чему революция-то учит! Я переписываюсь с одним англичанином, – в Канаде живет, сын приятеля супруга моего, – он очень хорошо видит, что надобно делать у нас...
– Дальнозорок, – сказал Самгин.
Подвинув ему стакан чаю, Марина вкусно засмеялась:
– Лидия – смешная! Проклинала Столыпина, а теперь – благословляет. Говорит: «Перестроимся по-английски; в центре – культурное хозяйство крупного помещика, а кругом – кольцо фермеров». Замечательно! В Англии – не была, рассуждает по романам, по картинкам.
Самгин уже привык верить ее чутью действительности, всегда внимательно прислушивался к ее суждениям о политике, но в этот час политика мешала ему.
– Прости, я перебиваю тебя, – сказал он.
– Что за церемонии?
– Что такое эта старушка Обоимова? Марина подняла брови, глаза ее смеялись.
– Чем это она заинтересовала тебя?
– Нет, – серьезно! – сказал Самгин. – Она и этот ее...
– Ястребов?
– Показались мне слабоумными...
– Ну, это – слишком! – возразила Марина, прикрыв глаза. – Она – сентиментальная старая дева, очень несчастная, влюблена в меня, а он – ничтожество, лентяй. И враль – выдумал, что он художник, учитель и богат, а был таксатором, уволен за взятки, судился. Картинки он малюет, это верно.
Она вдруг замолчала и, вскинув голову, глядя в упор в лицо Самгина, сказала, блеснув глазами:
– Впрочем, я чувствую, что ты смущен, и, кажется, понимаю, чем смущен.
Ресницы ее дрожали, и казалось, что зрачки искрятся, голос ее стал ниже, внушительней; помешивая ложкой чай, она усмехнулась небрежно и неприятно, говоря:
– Ну, что ж? Очевидно – пришел час разоблачить тайны и загадки.
Помолчав, глядя через голову Самгина, она спросила:
– Ты «Размышления Якова Тобольского», иначе – Уральца, не читал? Помнишь, – рукопись, которую в Самаре купил. Не читал? Ну – конечно. Возьми, прочитан! Сам-то Уралец размышляет плохо, но он изложил учение Татариновой, – была такая монтанка, основательница секты купидонов...
– Не понимаю, какое отношение к моему вопросу, – сердито начал Самгин, но Марина сказала:
– Вот и поймешь.
– Что?
– Что я – тоже монтанка.
Самгин долго, тщательно выбирал папироску и, раскуривая ее, определял, – как назвать чувство, которое он испытывает? А Марина продолжала все так же небрежно и неохотно:
– Монтане – это не совсем правильно, Монтан тут ни при чем; люди моих воззрений называют себя – духовными...
«Сектантка? – соображал Самгин. – Это похоже на правду. Чего-то в этом роде я и должен был ждать от нее». Но он понял, что испытывает чувство досады, разочарования и что ждал от Марины вовсе не этого. Ему понадобилось некоторое усилие для того, чтоб спросить:
– Значит, ты... член сектантской организации?
– Я – кормщица корабля.
Она сказала это очень просто и как будто не гордясь своим чином, затем – продолжала с обидным равнодушием:
– Попы, но невежеству своему, зовут кормщиков – христами, кормщиц – богородицами. А организация, – как ты сказал, – есть церковь, и немалая, живет почти в четырех десятках губерний, в рассеянии, – покамест, до времени...
Пододвигая Самгину вазу с вареньем, а другою рукой придерживая ворот капота, она широко улыбнулась:
– Ой, как ты смешно мигаешь! И лицо вытянулось. Удивлен? Но – что же ты, милый друг, думал обо мне?
Правая рука ее была обнажена по локоть, левая – почти до плеча. Капот как будто сползал с нее. Самгин, глядя на дымок папиросы, сказал, не скрывая сожаления:
– Согласись, что это – неожиданно для меня. И вообще – крайне странно!
– Ну, разумеется! – откликнулась она. – Проще было бы, если б оказалось, что я содержу тайный дом свиданий...
– Понятней для меня ты не стала, – пробормотал Самгин с досадой, но и с печалью. – Такая умная, красивая. Подавляюще красивая...
Говоря, он не смотрел на нее, но знал, что ее глаза блестят иронически.
– Даже – подавляю? – спросила она. – Вот как?.. – И внушительно произнесла:
– «Сократы, Зеноны и Диогены могут быть уродами, а служителям культа подобает красота и величие», – знаешь, кто сказал это?
– Нет, – ответил Самгин, оглядываясь, – все вокруг как будто изменилось, потемнело, сдвинулось теснее, а Марина – выросла. Она спрашивала его, точно ученика, что он читал по истории мистических сект, по истории церкви? Его отрицательные ответы смешили ее.