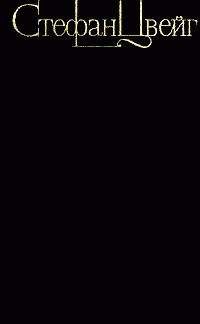Стефан Цвейг - Нетерпение сердца
В общем-то я был весьма посредственным наездником и не мог равняться с таким заядлым кавалеристом, как Штейнхюбель. Но сегодня он не нашел бы никого лучше меня, и неукротимый Цезарь не мог встретиться с более опасным противником. Ибо в этот день ярость напрягла во мне каждый мускул; злобное желание с кем-то расправиться, что-то подчинить себе было настолько сильным, что я с каким-то почти садистским удовольствием старался показать хотя бы этому упрямому животному (ведь недосягаемому нельзя нанести удар!), что мое терпение имеет предел. Бравый Цезарь носился, как бешеный, бил копытами в стены, вставал на дыбы, пытался сбросить меня, прыгая в сторону, — ничего не помогало. Я беспощадно рвал трензель, словно хотел выломать коню все зубы, молотил его каблуками по ребрам, и такое обхождение быстро отбило у него охоту фокусничать. Меня возбуждало, увлекало, вдохновляло его упорное сопротивление, а одобрительные возгласы офицеров: «Черт возьми, он даст ему жару!» или «Посмотрите-ка на Гофмиллера!» — придавали мне отваги. Когда физическое усилие приводит к успеху, это всегда порождает чувство удовлетворения; после получаса отчаянной борьбы я вышел победителем, подо мной тяжело дышало и дымилось мокрое от пота, словно только что из-под горячего душа, укрощенное животное. Шея и сбруя в клочьях белой пены, уши покорно прижаты, и еще через полчаса этот непобедимый уже кроток и слушается меня: больше не нужно сжимать шенкеля, и я спокойно могу спешиться и принять поздравления товарищей. Но во мне еще слишком много боевого задора, и это ощущение приподнятости так радует меня, что я прошу у Штейнхюбеля позволить мне часок-другой поездить по учебному плацу — рысью, конечно, — чтобы вспотевшая лошадь остыла.
— Ну еще бы! — смеясь, кивает Штейнхюбель. — Я уже вижу, ты вернешь мне его в полном порядке. Теперь-то он не будет выкидывать фортелей. Браво, Тони, поздравляю!
И вот под бурные аплодисменты товарищей я выезжаю из манежа и, ослабив поводья, направляю измученную лошадь через весь город и потом в луга. Она идет легко и свободно, и сам я чувствую себя так же легко и свободно. За этот напряженный час я вколотил всю свою злость и ожесточение в своенравное животное; Сейчас Цезарь идет рысью, кроткий и мирный, и — надо отдать справедливость Штейнхюбелю — у коня действительно чудесный ход. Нельзя скакать более красиво, плавно, упруго. Постепенно моя первоначальная досада уступает место приятному, почти мечтательному настроению — я наслаждаюсь. Добрый час даю лошади порезвиться на просторе и лишь после этого, в половине пятого, медленно пускаюсь в обратный путь. На сегодня хватит, и Цезарю и мне. Слегка покачиваясь в седле, легкой рысью я возвращаюсь в город по хорошо знакомому шоссе, меня уже чуть-чуть клонит ко сну. Вдруг за моей спиной раздается гудок автомобиля, громкий, резкий. Мой чуткий рысак тотчас настораживает уши и начинает дрожать. Но я вовремя натягиваю поводья, беру лошадь в шенкеля, направляю к обочине и останавливаюсь под деревом, Чтобы дать дорогу автомобилю.
Его, кажется, ведет внимательный шофер, который правильно понимает мой маневр. Он подъезжает очень медленно, на самой малой скорости, так что едва слышны выхлопы мотора: мне нет никакой надобности напряженно следить за лошадью и сжимать шенкеля, каждый миг ожидая, что она прыгнет вбок или попятится назад, — сейчас, когда автомобиль проезжает мимо нас, Цезарь стоит довольно тихо. Я спокойно могу оглянуться. Но, подняв глаза, замечаю, что кто-то кивает мне из открытой машины, и узнаю круглую лысину Кондора рядом с яйцеобразной, покрытой белым пушком головой Кекешфальвы.
Не знаю, лошадь ли дрожит подо мной, или меня самого охватила дрожь. Что это значит? Кондор здесь и не дал мне знать? Он был, вероятно, у Кекешфальвы; ведь старик сидел с ним рядом в машине! Но почему они не остановились поздороваться со мной? Почему они проехали мимо? И почему. Кондор опять очутился здесь? Ведь с двух до четырех у него обычно прием в Вене. Должно быть, его спешно вызвали рано утром. Конечно, что-нибудь случилось. Это, безусловно, связано со звонком Илоны, с тем, что они вынуждены отложить поездку, и мне нельзя приходить сегодня. Наверно, что-то случилось, что-либо такое, о чем мне не хотят говорить! Она что-то сделала над собой вчера вечером, в ней было что-то решительное, какая-то насмешливая уверенность, какая бывает у людей, замышляющих злое, опасное. Ну конечно, она что-то сделала над собой! Не поскакать ли мне за ними, может, я еще догоню Кондора на вокзале!
Но, возможно, он и не собирается уезжать. Нет, если действительно произошло что-то плохое, он ни в коем случае не уедет, не известив меня. Может быть, в казарме уже лежит записка от него. Я знаю, этот человек ничего не сделает тайком от меня, во вред мне. Этот человек не оставит меня одного. Тогда живо домой! Без сомнения, там меня уже ждет письмо, записка от него или он сам. Скорей!
Подъехав к казарме, я быстро отвожу лошадь в конюшню и по боковой лестнице, чтобы не слушать поздравлений и прочей болтовни, бегу к себе. Действительно, у дверей комнаты меня ожидает денщик; по растерянному выражению его лица и опущенным плечам я догадываюсь: что-то случилось… С некоторым замешательством Кузьма докладывает, что ко мне пришел какой-то господин в штатском и он, Кузьма, не осмелился не впустить его, потому что у господина очень срочное ко мне дело. Вообще-то Кузьме строго-настрого запрещено пускать кого-либо в мое отсутствие. Вероятно, Кондор дал ему на чай, недаром у него такой смущенный и испуганный вид. Впрочем, его растерянность сразу сменяется удивлением, когда я, вместо того чтобы устроить ему разнос, миролюбиво бросаю: «Ну ладно, ладно», — и подхожу к двери. Слава богу, думаю я, Кондор пришел и все мне расскажет.
Я рывком распахиваю дверь и тут же замечаю, как в противоположном углу затененной комнаты (из-за жары Кузьма спустил шторы) шевельнулась, выступая из тени, чья-то фигура. Я готов уже радостно броситься навстречу Кондору, но вдруг вижу, что это вовсе не Кондор. Это не он, а тот, кого я меньше всего ожидал встретить у себя, — Кекешфальва! И будь здесь еще темнее, я все равно узнал бы его из тысячи, узнал по тому, как он смущенно встал и поклонился. И еще до того, как он, откашливаясь, заговорил, я уже знал, что его голос прозвучит взволнованно и смиренно.
— Простите меня, господин лейтенант, — произнес он, кланяясь, — что я без предупреждения ворвался сюда. Но доктор Кондор поручил мне передать вам особый привет и сказать, чтобы вы не сердились на него за то, что он не остановил машину… времени оставалось в обрез, он должен был непременно успеть на скорый в Вену, поскольку вечером у него там… и… и вот… он попросил меня передать вам, что крайне сожалеет. Именно поэтому… я хочу сказать, только потому… я и позволил себе без приглашения прийти к вам.
Он стоит передо мной, склонив голову под тяжестью невидимого бремени. В темноте тускло поблескивает его лысина, едва прикрытая редкими волосами. Его раболепная поза начинает мало-помалу раздражать меня. И неприязнь подсказывает верную догадку: за этими сбивчивыми объяснениями что-то кроется. Не полезет старый человек с больным сердцем на третий этаж, чтобы передать ничего не значащий привет. Это можно было с тем же успехом сделать по телефону или вообще отложить до завтра. «Внимание! — говорю я себе. — Кекешфальва чего-то от тебя хочет. Однажды он точно так же возникал из тьмы; начнет смиренно, как нищий, — и вот уже навязал тебе свою волю, словно джинн из сказки милосердному юноше. Только не поддаваться! Не позволять обвести себя вокруг пальца. Ни о чем не спрашивать, ничего не выяснять, как можно быстрее отделаться от него и выпроводить из комнаты».
Но передо мной стоит старый, больной человек, и голова его униженно склонена. Сквозь редкие волосы просвечивает бледная кожа; и, как во сне, я вспоминаю голову бабушки, склоненную над вязаньем: бабушка вязала и рассказывала сказки своим маленьким внукам. Нельзя просто так выставить за дверь больного старика. И я, все еще не наученный горьким опытом, указываю ему на стул.
— С вашей стороны, господин Кекешфальва, это весьма любезно. Право же, слишком любезно.
Кекешфальва не отвечает. Возможно, он даже не расслышал моих слов. Но движение руки, конечно, понял. Он робко присаживается на краешек предложенного стула. Наверно, так робко сиживал он в молодости за даровым угощением у чужих людей, вдруг подумалось мне. И теперь он, миллионер, сидит точно так же на моем расшатанном стуле. Он медленно снимает очки, достает из кармана носовой платок и начинает протирать стекла. «Ну нет, милейший, я уже стреляный воробей: я знаю все твои штучки, и зачем ты протираешь стекла, тоже знаю. Ты их нарочно протираешь, чтобы выиграть время. Ты хочешь, чтоб я заговорил первым, чтоб я спросил тебя, я даже знаю, какого вопроса ты ждешь: действительно ли Эдит так больна и почему она отложила отъезд? Но я держусь настороже. Начинай сам, если хочешь мне что-то сказать. Я палец о палец не ударю ради тебя. Нет, второй раз я уже не попадусь на эту удочку — хватит с меня проклятого сострадания, этого вечного „еще“ и „еще“! Довольно намеков и недомолвок. Хочешь чего-то от меня — выкладывай начистоту да поскорей и не прячься за дурацким протиранием стекол. От меня ты больше ничего не дождешься, я по горло сыт состраданием».