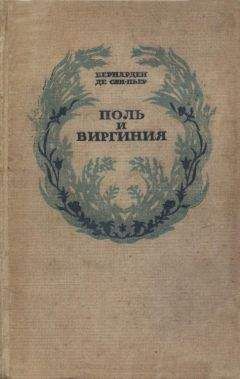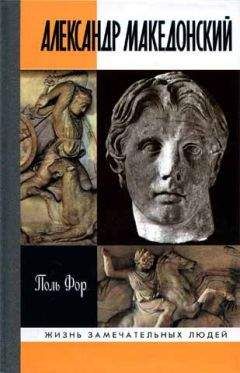Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
Нотариус признал, что прегрешение Клотара облегчает гнет его собственного греха, но чувства своего не переменил. В обществе легче принизить человека, нежели возвысить его; с Вальтом же дело обстояло наоборот. Вульт ушел, пообещав, что скоро вернется.
Как-то во второй половине дня в комнатенку Вальта заскочил Флитте, для которого весь город был сплошным танцевальным залом. Он привык полагать, что в любом селении у него ровно столько добрых старых знакомых, сколько там имеется жителей; и потому без всяких околичностей причислил нотариуса, относившегося к здешнему народонаселению, к сонму своих друзей. Вальт охотно поверил, что гость пришел ради него; радость и страх, обусловленные тем, что он принимает у себя столь светского человека, можно сказать, вывели его из себя. Его «я» испуганно заметалось наверху, по всем четырем головным камерам, а потом внизу, по обеим сердечным, – как мышь, – чтобы найти там вкусные крошки идей, которые он мог бы предложить эльзасцу в качестве угощения. Он нашел мало такого, что пришлось бы гостю по вкусу, но у Флитте все равно не было ни аппетита, ни зубов. Ученые мужи, которые не покидают своих рабочих кабинетов и неделю напролет, день за днем, на устраиваемых там банкетах и пикниках наслаждаются изысканнейшими, пикантнейшими идеями и блюдами из всех эпох и уголков мира, могут легко вообразить себе, что светский или деловой человек заскучает у них в гостях и буквально иссохнет от скуки, если они не будут постоянно поливать его горячими жирными идеями, вращая на вертеле беседы; на самом же деле человек деловой доволен уже тогда, когда он просто сидит в кресле, а светский – когда стоит у окна или слышит, что, например, маркграфиня вчера за столом неумеренно наслаждалась пиршеством, а барон фон Кляйншвагер, чье имя ему ничего не говорит, этим утром проехал, не останавливаясь, через их город. Нужно вновь и вновь объяснять это ученым мужам; иначе они всегда будут тащить за собой общественную провиантскую повозку, нагруженную мыслями в большем или меньшем количестве, или даже остротами. Правильная же – обычная и, тем не менее, приносящая удовлетворение – беседа выглядит, в общем и целом, так: один говорит то, что другому уже известно, на что этот другой отвечает что-то такое, что первый тоже знает, – и получается, что каждый слышит самого себя дважды, как если бы речь шла о духовных двойниках.
Готвальт не знал, как ему общаться с Флитте, столь же пустым в смысле знания реалий, сколь сам он был пуст относительно персоналий. Тем не менее эльзасец болтал, напевал и пританцовывал, насколько это у него получалось, часто подходил к окну, часто – к книжной полке; и пытался что-то сказать по этому поводу, потому что он охотно хвалился перед каждым человеком именно тем, что было свойственно этому другому. Некоторые люди подобны пианино, на котором следует играть для себя; другие напоминают рояль, предназначенный для публичных концертов; Флитте мог говорить только перед многими людьми, для дуэта же был, можно сказать, слишком глуп.
Когда любезный нотариус, наконец, заскучал от скуки, которую боялся нагнать на гостя, – поскольку в беседе, как и в карточном «фараоне», выигрыш (будь то удовольствия или денег) никогда, понятное дело, не может превысить совокупный вклад обоих партнеров: он принялся втайне на примере эльзасца изучать особенности французской нации (ибо Эльзас, говорил он себе, все же в достаточной мере французский) и мимоходом делал из него отливку для литейного зала своего романа, тем самым как бы укладывая его на хранение.
Занимаясь таким вот литьем, он внезапно захлопнул окно и, глянув в сад, отвесил через стекло поклон, потому что Рафаэла, которая шла внизу вместе с Виной навстречу вечернему солнцу, повернув голову, поприветствовала его легким кивком. Тут к окну подлетел и Флитте; Рафаэла обернулась, еще раз быстро оглянулась по сторонам и узнала его тоже. Вина ступала медленно, как бы волоча за собой тяжкую боль, голову она подняла к вечернему солнцу и часто прижимала к глазам носовой платок. Рафаэла, казалось, обращалась к ней резко, напористо и копалась буквально в каждом затуманенном уголке ее личной жизни, надеясь отыскать там сокровенный источник слез.
Вальт настолько забылся, что горестно вздохнул.
– Мне просто показалось, – прибавил он уже сдержаннее, – будто милая дочь генерала плачет.
– Там, внизу? – холодно переспросил Флитте. – Наверняка это из-за отчаяния в связи с утратой графа; она никак не может пережить такую потерю. До следующего раза! A revoir, ami!
И он устремился по лестнице в сад.
Вальт сел к столу, подперев голову рукой и прикрыв ладонью глаза: его одолела чистая тягучая боль. Он был не в состоянии смотреть на милое лицо прекрасной барышни и на ее очевидные страдания, пока она шла по саду в его сторону. Он пугался при мысли о ближайшем часе, когда будет заниматься копированием в доме ее отца и, возможно, случайно столкнется с нею. Заходящее солнце наконец согрело его, по-матерински пробудив от зимней спячки этого злосчастного часа. Сад был пуст; нотариус все-таки спустился туда. Он сам не знал, зачем. В кустах порхал надорванный тонкий лист писчей бумаги. Вальт взял его; лист был исписан женской рукой и содержал какой-то отрывок, скопированный из чужого письма, – как свидетельствовали так называемые кавычки-лапки. Половинка листа, тоже надорванная: на копию второго письма – первое он никогда бы не стал читать – Вальт счел себя вправе взглянуть и прочитал следующее:
«“…цветов сломаны. Можешь мне поверить. О, как легко и радостно терпеть собственную боль! И как тяжело – чужую, которую, пусть и без вины, не по своей воле, причинил ты сам! Как может живое существо, тоже обладающее бьющимся сердцем, заставлять плакать целые народы, если уже первый, кого ты сделал несчастным, причиняет тебе столько страданий? Спрячь мою жалобу, добросовестно умалчивай о ней, чтобы она не опечалила моего отца, который столь легко обо всем узнаёт! Впрочем, ты и без моих просьб так поступишь. Между тем, принятое мною решение твердо, как никогда; вот только теперь я хочу оплатить его болью. Я теперь не могу делать ничего другого, кроме как страдать и исправляться; я чаще хожу в церковь, чаще пишу матушке, стараюсь угождать отцу и любой человеческой душе. Ведь подобает, чтобы я, поскольку Церковь велит мне не отвергать радости, передавала их куда-то еще, где она разрешает их умножать. Мои же радости давно прекратились: еще раньше, чем я потеряла его… О, будь хоть ты счастлива, дорогая Рафаэла!” Отсюда, прелестнейшая, ты можешь понять, каким тяжелым гнетом рана моей В. легла на мое чересчур чувствительное сердце. Прощай! Кстати: золотое сердечко, если ты еще не заказала его у кузнеца, должно весить три лота. Что касается браслета и ножниц для разделки зайца, то моя матушка их уже получила.
Твоя Рафаэла»
Вальту пришлось прервать чтение, поскольку из окна его окликнул по имени Вульт, чье лицо прямо-таки светилось радостью; письмо нотариус дочитал, поднимаясь по лестнице.
«Тебе ведь знакомы, – весело начал Вульт, – мои Евстахиевы трубы Фамы? То бишь мои Кумские сивиллы, пророчествующие о прошлом? Иными словами, мои взятые напрокат факелы? Боже, неужели ты еще не понял меня? Я имею в виду – моя историческая Octapla и восемь partes orationis (поскольку барышень ровно столько)? Черт возьми, ты забыл об этих мотальщицах пряжи? Речь идет о девическом пансионе! Так вот, там я узнал то, о чем сейчас расскажу, причем узнал из чистейшего источника, поскольку генерал, который иногда навещает этих девиц, как все любознательные люди, сам рассказывает им не меньше, чем слышит от них.
Если быть точным, то именно догаресса – она же директриса упомянутого пансиона – ради нескольких новостей и любезностей жертвует генералу ровно столько девических душ, сколько потом докладывают об услышанном мне: то бишь восемь. Позавчера генерал праздновал свой день рождения и, по обыкновению, перед праздничным обедом принял святое причастие, после запив это лекарство для души большим количеством вина. Дочь всегда ходит на исповедь вместе с ним. Не знаю, приходилось ли тебе иметь дело с избалованными вельможами, которым монахи так легковесно – словно собакам – говорят: faites la belle, для которых исповедальня есть ночной горшок, заполняемый отходами их духовного перепоя и обжорства и которые, как вообще все северяне, своим обращением в христианскую веру обязаны исключительно женщинам (не думаешь же ты, что с Людовиком XIV в последние часы его жизни дело обстояло иначе?). Коротко говоря: генерал, судя по всему, относится именно к таким типам. В дни рождения (они же дни исповеди) он испытывает особую любовь к дочери, потому что на всем протяжении такого дня заливает своего рода крестильную воду – если позволительно объединить два столь разных таинства лишь по признаку использования в них жидкостей – в водосвятную чашу ее головы. И вообще у него есть одно хорошее качество: он действительно хорошо относится к Вине; даже смотрит сквозь пальцы на ее привязанность к матери-протестантке, которая живет в Лейпциге и которую сам он от души ненавидит… Итак, генерал проводит целый день вместе со своей дочерью-исповедником, дочерью-падре, а потому много пьет и плачет. И наконец требует от нее отчета: почему, дескать, она до сих пор так грустна, будто любит графа чуть ли не больше, чем Господа, святую Церковь и родного отца. Вина запальчиво отвечает: мол, это совсем не так; даже церковного советника Гланца, который часто говорил с ней о святой вере, она вежливо выслушивала, но и только; графа же любит не больше, чем любого доброго человека! Заблоцкий тогда с удивлением спросил: почему же тогда она, обладая свободой выбора, все-таки хотела выйти за графа. „Я думала, – сказала она, – что посредством истинного самопожертвования, возможно, обратила бы его в нашу веру“. Вальт! Она хотела обратить в свою веру философа! Проще уж окрестить парик и выбрить на нем монашескую тонзуру!