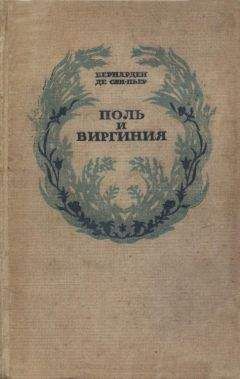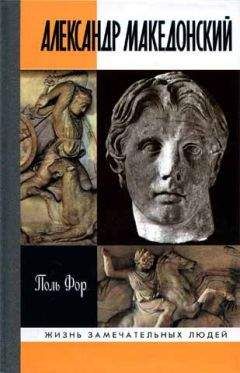Грубиянские годы: биография. Том I - Поль Жан
– Это, дружочек, из-за моей ядовитости, – сказал Вульт. – Ну и отчасти из-за гордости. Только поэтому. Вот, – продолжил он, доставая запечатанное двумя печатями письмо, – прочитай этот документ, подтверждающий, что я заранее оправдывал тебя, а себя – тем паче.
Но нотариус не пожелал открыть письмо; он сказал, что верит брату на слово, и что теперь наконец понял его, и что сейчас ему намного лучше. Вульт не настаивал; приникнув к Вальтову сердцу, он слился с братом в долгожданных горячих объятиях, выдавших всю необузданность его духа.
И брат почувствовал себя счастливым, и он сказал:
– Мы остаемся братьями.
– Только одного друга может иметь человек, говорит Монтень, – проговорил Вульт.
– Да! только одного, – подхватил Вальт, – и только одного отца, только одну мать, одну возлюбленную – и одного, одного брата-близнеца!
Вульт ответил очень серьезно:
– Именно, только одного! И пусть в каждом сердце останутся только любовь и справедливость.
– Пошути опять, как прежде, и я наверняка буду смеяться, уж как сумею, – сказал Вальт. – Пошути в знак твоего примирения со мной: твоя серьезность рассекает мне сердце.
– Если хочешь, можно и пошутить, – откликнулся тот. – Ах, нет! Клянусь Богом, лучше не надо! Если, как верят описанные Стелл ер ом камчадалы, из двух близнецов один всегда рождается от отца-волка, то я поистине и есть этот волчий бастард-метис и лунный теленок, а вот ты – едва ли. Теперь, когда мы можем откровенно говорить о той путанице, я отважусь сказать, что ты вел себя по отношению к графу чисто и честно; беда лишь в том, что в тебе слишком мало своего эгоизма, чтобы ты мог догадаться о чужом. У Клотара, можно сказать, большой эгоизм – поверь, я сегодня ни на кого не нападаю, а наоборот, подражаю тебе… Но философы – тем более молодые, как он, – клянусь Богом, на минуточку эгоисты. Человеколюбивые максимы и мор алии, как ты знаешь, бьют мимо цели; свет это не огонь, светильник – не печь; тем не менее, всякий, даже самый никудышный немецкий философ уверен: если он внесет в сердце свою сальную свечку и поставит на стол, то ее свет обогреет в достаточной мере обе камеры.
– Дорогой Вульт, – произнес Вальт нежнейшим голосом, – разреши мне не отвечать; сегодня я менее всего имею право судить о несчастном Клотаре, у которого отнял самое прекрасное достояние и который сейчас одиноко странствует в мрачной ночи, направляясь с помраченным сердцем в мрачное будущее. Чист ты, а не я; поэтому тебе и слово.
– Что ж, тогда скажу я, – согласился Вульт. – Наш философ в этот вечер сбросил с себя кожу; а это предвещает хорошую погоду, когда линька происходит у пауков. Между прочим! Тебе тоже пора сменить кожу – только в лучшем, физическом смысле!
Вальт послушался; брат поддержал его, когда он поставил ногу на сапожного денщика.
– Как улыбается луна, – сказал Вульт, – кружа по всей комнате! – И продолжил свою мысль так: – Встань в этом чудном сиянии-мнимости и опять зажми зубами конец ленты; теперь я заплету твою косичку с совсем другими чувствами и другими пальцами, чем прежде, мой помпезный кудряш!
Потом они расстались, спокойно и с любовью друг к другу.
Конец второй книжечки
Третья книжечка
№ 33. Лучистая слюда
Братья. – Вина
Облаженные, священные дни, которые следуют за часом примирения между людьми! Любовь опять становится наивной и девственной, любимый – обновленным и просветленным; сердце празднует свой май, а восставшие к жизни – с полей сражений – уже не понимают прежнюю, забытую ими войну.
Сражения прогоняют с неба хмурую облачность; оба брата после краткой войны наслаждались погодой, яснее которой не бывает, и видели как друг друга, так и всё прочее в самом радужном свете. Вальт, подлинное олицетворение любви и щедрости, стремился только к тому, чтобы дарить брату то и другое с еще большей нежностью и теплотой; шрамы, оставшиеся от неглубоких укусов совести, еще не совсем перестали саднить, а слезы Вульта, обычно столь засушливого, нотариус навечно заключил в свою душу. Вульт и сам казался теперь человеком с новыми мелодиями, заимствованными из канона любви. И хотя эти мелодии проявлялись больше в поступках, чем в знаках, не заметить их было нельзя; его частые визиты, уступчивость, мягкость, его всегдашнее желание помочь, а при прощании – хотя он довольно быстро добирался до лестницы и становился невидимым – часто еще и братский поцелуй: всё это выдавало, что творится у него внутри.
– Никто, – сказал ему однажды Вальт, – не выглядит трогательнее, чем ты в те мгновения, когда твой огненный взгляд смягчается; такими я всегда представлял себе спартанцев, когда они под звуки флейт отправляются на поле битвы.
– По-твоему выходит, – отозвался тот, – будто я – что-то наподобие тюленя, говорящего «мама» [24]; я бы даже сказал – вроде урагана в темпе пианиссимо. Но, если всерьез, я все еще при концертных деньгах и потому веду себя как добрый и радостный агнец; моя жизнь – книга, полная золоченых миниатюр, ее листы податливы и подвижны… но ведь такова сама золотая фольга, мой мальчик!
Вальт вовсе не сердился на такие речи. Но хотя и Вульт просто плыл по течению – поскольку рассматривал себя в качестве ближайшего, счастливого престолонаследника отбывшего друга-графа, – он все же замечал, что в этой жизни лишь воздает брату должное, а отнюдь не балует его своими дарами, и что Вальт всегда опережает его на один теплый день.
Однажды Вульт услышал от «своего звоночка» – так он называл девический пансион в его совокупности – всю страстную защитительную речь, с которой кроткий Вальт (как раз когда в любви самого Вульта к брату наступила пауза) выступил против братниных недоброжелателей за столом Нойпетера. Вальт тогда не проронил об этом ни словечка – из любви не только к брату, но и ко всему миру; из тех же соображений, побуждаемый двойною любовью, он не показывал завещание Кабеля, которое могло бы несколько обидеть брата. Вульт вошел в комнату, в пылу любви обхватил Вальта за плечи и дал выход своему пылу, непринужденно и весело пройдясь по нойпетеровским домочадцам. Однако выбрал он неудачный момент: ибо Вальт работал над «Яичным пуншем», с любовью протягивал пишущую руку всем пяти частям света и был как раз погружен в думы об утраченном Клотаре, потому что именно теперь описывал в книге радостные празднества обретающих и обретенных душ. С меланхоличной радостью писал он сейчас о них, одновременно оплакивая умершего для него друга, тогда как прежде, когда еще только охотился на Клотара, писал о том же с болью, – и дивился разнице между двумя ситуациями.
Тот прекрасный воодушевляющий полдень у Нойпетера, о котором ему напомнил – выражениями благодарности – Вульт, вновь приблизил графа к его груди; и он откровенно признался брату, что далекий путник с его опустошенным бытием и утраченной Виной не идет у него из головы, тяжело давит на грудь – он буквально видит, как граф одиноко сидит в закрытой карете и думает об оставшемся позади, – что ему бесконечно жаль этого орла, изгнанного с неба и загнанного в клетку, и что на земле не сыщется муки горше, чем знать, что ты причинил муку благородному человеку.
– О Вульт, утешь меня, если это в твоих силах! – вырвалась у него отчаянная мольба. – Меня не утешает сознание того, что воля моя невинна. Ведь если ты случайно, без злого умысла – а может, и с наилучшими намерениями, – посредством какой-то вырвавшейся из ада искры поджег больницу, или невинную швейцарскую деревню, или дом, наполненный пленными, и потом видел бушующее пламя, видел скелеты погибших: ах, Бог мой, кто тебе тогда поможет?
– Мне – холодный разум, а тебе – я, – сказал тот, нисколько не рассердившись. – Потому что я бы прежде всего разузнал о подробностях происшедшего – в девичьем пансионе, расположенном по соседству со мной. Когда я еще числился слепым, я каждый вечер сиживал там у них; это самая быстрая венская трещоточная почта, с какой мне доводилось иметь дело, потому что иногда она сообщает о событиях, которые в данный момент еще только происходят. Что касается графа, то его поведение, в отличие от твоего, нельзя извинить случайным стечением обстоятельств: я имею в виду низменные предположения относительно прочтения и передачи письма; он повел себя так, как это принято у вельмож и у галльских трагиков, которые, чтобы что-то объяснить, охотнее ссылаются на величайший, чем на малый грех, лучше уж на кровосмешение, чем на потерю невинности.