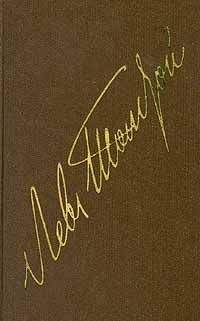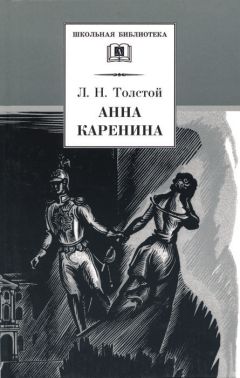Лев Толстой - Анна Каренина
шутником-стариком, который пригласил его в соседи, и молодым мужиком, с
осени только женатым и пошедшим косить первое лето.
Старик, прямо держась, шел впереди, ровно и широко передвигая
вывернутые ноги, и точным и ровным движеньем, не стоившим ему, по-видимому,
более труда, чем маханье руками на ходьбе, как бы играя, откладывал
одинаковый, высокий ряд. Точно не он, а одна острая коса сама вжикала по
сочной траве.
Сзади Левина шел молодой Мишка. Миловидное молодое лицо его, обвязанное
по волосам жгутом свежей травы, все работало от усилий; но как только
взглядывали на него, он улыбался. Он, видимо, готов был умереть скорее, чем
признаться, что ему трудно.
Левин шел между ними. В самый жар косьба показалась ему не так трудна.
Обливавший его пот прохлаждал его, а солнце, жегшее спину, голову и
засученную по локоть руку, придавало крепость и упорство в работе; и чаще и
чаще приходили те минуты бессознательного состояния, когда можно было не
думать о том, что делаешь. Коса резала сама собой. Это были счастливые
минуты. Еще радостнее были минуты, когда, подходя к реке, в которую
утыкались ряды, старик обтирал мокрою густою травой косу, полоскал ее сталь
в свежей воде реки, зачерпывал брусницу и угощал Левина.
- Ну-ка, кваску моего! А, хорош? - говорил он, подмигивая.
И действительно, Левин никогда не пивал такого напитка, как эта теплая
вода с плавающею зеленью и ржавым от жестяной брусницы вкусом. И тотчас
после этого наступала блаженная медленная прогулка с рукой на косе, во время
которой можно было отереть ливший пот, вздохнуть полною грудью и оглядеть
всю тянущуюся вереницу косцов и то, что делалось вокруг, в лесу и в поле.
Чем долее Левин косил, тем чаще и чаще он чувствовал минуты забытья,
при котором уже не руки махали косой, а сама коса двигала за собой все
сознающее себя, полное жизни тело, и, как бы по волшебству, без мысли о ней,
работа правильная и отчетливая делалась сама собой. Это были самые блаженные
минуты.
Трудно было только тогда, когда надо было прекращать это сделавшееся
бессознательным движенье и думать, когда надо было окашивать кочку или
невыполонный щавельник. Старик делал это легко. Приходила кочка, он изменял
движенье и где пяткой, где концом косы подбивал кочку с обеих сторон
коротенькими ударами. И, делая это, он все рассматривал и наблюдал, что
открывалось перед ним, то он срывал кочеток, съедал его или угощал Левина,
то отбрасывал носком косы ветку, то оглядывал гнездышко перепелиное, с
которого из-под самой косы вылетала самка, то ловил козюлю, попавшуюся на
пути, и, как вилкой подняв ее косой, показывал Левину и отбрасывал.
И Левину и молодому малому сзади его эти перемены движений были трудны.
Они оба, наладив одно напряженное движение, находились в азарте работы и не
в силах были изменять движение и в то же время наблюдать, что было перед
ними.
Левин не замечал, как проходило время. Если бы спросили его, сколько
времени он косил, он сказал бы, что полчаса, - а уж время подошло к обеду.
Заходя ряд, старик обратил внимание Левина на девочек и мальчиков, которые с
разных сторон, чуть видные, по высокой траве и по дороге шли к косцам, неся
оттягивавшие им ручонки узелки с хлебом и заткнутые тряпками кувшинчики с
квасом.
- Вишь, козявки ползут!- сказал он, указывая на них, и из-под руки
поглядел на солнце.
Прошли еще два ряда, старик остановился.
- Ну, барин, обедать!- сказал он решительно. И, дойдя до реки, косцы
направились через ряды к кафтанам, у которых, дожидаясь их, сидели дети,
принесшие обеды. Мужики собрались - дальние под телеги, ближние - под
ракитовый куст, на который накидали травы.
Левин подсел к ним; ему не хотелось уезжать.
Всякое стеснение перед барином уже давно исчезло. Мужики
приготавливались обедать. Одни мылись, молодые ребята купались в реке,
другие прилаживали место для отдыха, развязывали мешочки с хлебом и оттыкали
кувшинчики с квасом. Старик накрошил в чашку хлеба, размял его стеблем
ложки, налил воды из брусницы, еще разрезал хлеба и, посыпав солью, стал на
восток молиться.
- Ну-ка, барин, моей тюрьки, - сказал он, присаживаясь на колени перед
чашкой.
Тюрька была так вкусна, что Левин раздумал ехать домой обедать. Он
пообедал со стариком и разговорился с ним о его домашних делах, принимая в
них живейшее участие, и сообщил ему все свои дела и все обстоятельства,
которые могли интересовать старика. Он чувствовал себя более близким к нему,
чем к брату, и невольно улыбался от нежности, которую он испытывал к этому
человеку. Когда старик опять встал, помолился и лег тут же под кустом,
положив себе под изголовье травы, Левин сделал то же и, несмотря на липких,
упорных на солнце мух и козявок, щекотавших его потное лицо и тело, заснул
тотчас же и проснулся, только когда солнце зашло на другую сторону куста и
стало доставать его. Старик давно не спал и сидел, отбивая косы молодых
ребят.
Левин оглянулся вокруг себя и не узнал места: так все переменилось.
Огромное пространство луга было скошено и блестело особенным, новым блеском,
со своими уже пахнущими рядами, на вечерних косых лучах солнца. И окошенные
кусты у реки, и сама река, прежде не видная, а теперь блестящая сталью в
своих извивах и движущийся и поднимающийся народ, и крутая стена травы
недокошенного места луга, и ястреба, вившиеся над оголенным лугом, - все это
было совершенно новое. Очнувшись, Левин стал соображать, сколько скошено,
сколько еще можно сделать нынче.
Сработано было чрезвычайно много на сорок два человека. Весь большой
луг, который кашивали два дня при барщине в тридцать кос, был уже скошен.
Нескошенными оставались углы с короткими рядами. Но Левину хотелось как
можно больше скосить в этот день, и досадно было на солнце, которое так
скоро спускалось. Он не чувствовал никакой усталости; ему только хотелось
еще и еще поскорее и как можно больше сработать.
- А что, еще скосим, как думаешь, Машкин Верх? сказал он старику.
- Как бог даст, солнце не высоко. Нечто водочки ребятам?
Во время полдника, когда опять сели и курящие закурили, старик объявил
ребятам, что "Машкин Верх скосить - водка будет".
- Эка, не скосить! Заходи, Тит! Живо смахнем! Наешься ночью. Заходи! -
послышались голоса, и, доедая хлеб, косцы пошли заходить.
- Ну, ребята, держись!- сказал Тит и почти рысью пошел передом.
- Иди, иди!- говорил старик, спея за ним и легко догоняя его, - срежу!
Берегись!
И молодые и старые как бы наперегонку косили. Но, как они ни
торопились, они не портили травы, и ряды откладывались так же чисто и
отчетливо. Остававшийся в углу уголок был смахнут в пять минут. Еще
последние космы доходили ряды, как передние захватили кафтаны на плечи и
пошли через дорогу к Машкину Верху.
Солнце уже спускалось к деревьям, когда они, побрякивая брусницами,
вошли в лесной овражек Машкина Верха. Трава была по пояс в середине лощины,
и нежная и мягкая, лопушистая, кое-где по лесу пестреющая иваном-да-марьей.
После короткого совещания - вдоль ли ходить или поперек - Прохор
Ермилин, тоже известный косец, огромный черноватый мужик, пошел передом. Он
прошел ряд вперед, повернулся назад и отвалил, и все стали выравниваться за
ним, ходя под гору по лощине и на гору под самую опушку леса. Солнце зашло
за лес. Роса уже пала, и космы только на горке были на солнце, а в низу, по
которому поднимался пар, и на той стороне шли в свежей, росистой тени.
Работа кипела.
Подрезаемая с сочным звуком и пряно пахнущая трава ложилась высокими
рядами. Теснившиеся по коротким рядам косцы со всех сторон, побрякивая
брусницами и звуча то столкнувшимися косами, то свистом бруска по
оттачиваемой косе, то веселыми криками, подгоняли друг друга.
Левин шел все так же между молодым малым и стариком. Старик, надевший
свою овчинную куртку, был так же весел, шутлив и свободен в движениях. В
лесу беспрестанно попадались березовые, разбухшие в сочной траве грибы,
которые резались косами. Но старик, встречая гриб, каждый раз сгибался,
подбирал и клал за пазуху. "Еще старухе гостинцу", - приговаривал он.
Как ни было легко косить мокрую и слабую траву, но трудно было
спускаться и подниматься по крутым косогорам оврага. Но старика это не стес-
няло. Махая все так же косой, он маленьким, твердым шажком своих обутых в
большие лапти ног влезал медленно на кручь и, хоть и трясся всем телом и