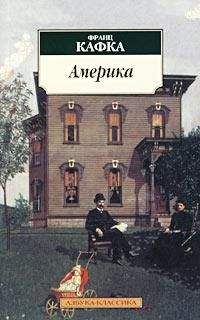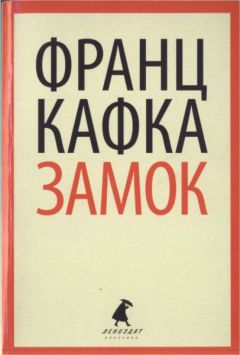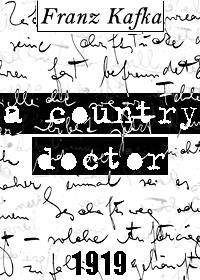Франц Кафка - Замок
К. наблюдал за всем этим не только с любопытством, но и с симпатией. Среди этой суеты он чувствовал себя почти уютно, поглядывал по сторонам, следил, хотя и с соответствующего расстояния, за слугами (которые, правда, уже не раз, опустив головы и надув губы, сердито поглядывали на него) и смотрел за их распределительной работой. Работа по мере их продвижения шла все менее гладко: то ли список не вполне соответствовал, то ли слуги не всегда могли различить папки, то ли по каким-то другим причинам господа начинали возражать, — как бы там ни было, распределение многих папок приходилось проводить заново; в таких случаях тележка ехала назад, и сквозь щель в дверях начинались переговоры о возврате папок. Эти переговоры уже сами по себе представляли большие затруднения, к тому же довольно часто случалось, что, когда речь заходила о возврате, как раз те двери, которые раньше пребывали в самом оживленном движении, теперь оставались неумолимо закрыты, словно вообще не желали ничего больше знать. Тогда только и начинались настоящие затруднения. Господин, полагавший, что имеет право на папку, проявлял крайнее нетерпение, поднимал в своей комнате страшный шум, хлопал в ладоши, топал ногами и через щель в двери беспрестанно выкрикивал в коридор определенный номер папок. Тележка тогда часто оставалась совсем брошенной. Один из слуг пытался успокоить нетерпеливого господина, второй сражался у закрытой двери за возврат папок. Обоим приходилось нелегко. Нетерпеливый от всех попыток его успокоить часто становился еще нетерпеливее, он вообще слушать больше не мог эту пустую болтовню слуги, он не хотел утешений, он хотел папки; один из таких господ даже вылил на слугу сверху через щель под потолком полный умывальник воды. Но второму слуге, очевидно, старшему из двух, было намного труднее. Если его господин вообще вступал в переговоры, то развертывалась деловая дискуссия, в ходе которой слуга ссылался на свой список, а господин — на свои записи и непосредственно на папки, которые он должен был возвратить, но пока что крепко держал в руках, так что жадные глаза слуги видели разве что какой-нибудь уголок папки. Этому слуге приходилось также бегать за новыми доказательствами назад к тележке, которая каждый раз сама собой укатывалась по слегка наклонному коридору все дальше и дальше, — или же ему приходилось возвращаться к претендовавшему на папки господину и там аргументы нынешнего владельца папок обменивать на новые контраргументы. Подобные переговоры тянулись очень долго; иногда приходили к какому-то соглашению: например, господин выдавал часть папок или, если папки были просто перепутаны, получал в качестве компенсации другие, но случалось и так, что господин — то ли потому, что он был приперт к стене доказательствами слуги, то ли потому, что уставал от этой бесконечной торговли, — бывал вынужден безоговорочно отказаться от всех желанных папок, однако тогда он не отдавал папки слуге, а с неожиданной решимостью выкидывал их далеко в коридор, так что тесемки развязывались и листы разлетались, и слугам стоило большого труда снова привести папки в порядок. Но тут все было еще сравнительно просто, сложнее бывало, когда слуга на свои просьбы о возврате вообще не получал никакого ответа; тогда он вставал перед закрытой дверью, просил, умолял, цитировал свой список, ссылался на инструкции — все напрасно, из комнаты не доносилось ни звука, а входить без разрешения слуга, очевидно, права не имел. В таких случаях даже этот образцовый слуга иногда терял самообладание; он шел к своей тележке, садился на папки, вытирал со лба пот и некоторое время вообще ничего не предпринимал, только беспомощно болтал ногами. Интерес к делу со стороны окружающих комнат был очень высок, повсюду шептались, почти ни одна дверь не стояла спокойно, а над верхними краями стен маячили под потолком и следили за всем происходящим какие-то странные, почти целиком закутанные в платки лица, которые к тому же ни секунды не оставались неподвижны на своих местах. Среди всего этого волнения К. показалось удивительным, что дверь Бюргеля все время оставалась закрыта и что слуги эту часть коридора уже прошли, но Бюргелю никаких папок выделено не было. Возможно, он еще спал, что, правда, при таком шуме означало очень здоровый сон, но почему он не получил никаких папок? Лишь очень немного комнат, к тому же, скорей всего, незаселенных, было таким образом пропущено. Зато в комнате Эрлангера уже был новый и особенно беспокойный гость; Эрлангера он, по всей видимости, попросту выставил ночью за дверь; это плохо вязалось с холодной светскостью Эрлангера, но тем не менее то, что ему пришлось ожидать К. на пороге своей комнаты, указывало на это.
От всех этих посторонних наблюдений К. вскоре вновь вернулся к слуге; поистине к этому слуге никак не относилось то, что К. рассказывали вообще о слугах, об их праздности, их удобной жизни, их высокомерии; очевидно, и среди слуг были исключения или, что еще вероятнее, — существовали разные категории слуг, потому что здесь, как заметил К., было много таких разграничений, о которых он до сих пор почти не имел представления. Особенно нравилась ему настойчивость этого слуги. В борьбе с маленькими упрямыми комнатами — К. это часто казалось борьбой с комнатами, так как их жильцов он почти не видел, — этот слуга не уступал. Он, правда, сильно выматывался — а кто бы тут не вымотался? — но вскоре приходил в себя, сползал с тележки и, стиснув зубы, снова бросался в атаку на дверь, которую должен был покорить. И случалось, что он бывал отбит дважды и трижды (очень, впрочем, простым способом: одним этим озверелым молчанием), и тем не менее отнюдь не был побежден. Когда он видел, что прямой атакой ничего достичь не сможет, он пытался действовать другим способом, например — если К. правильно это понимал — хитростью. Он тогда отходил от этой двери, давал ей возможность в какой-то степени исчерпать свою молчаливость, переходил к другим дверям, через некоторое время снова возвращался, звал второго слугу — все это демонстративно и громко — и начинал складывать на пороге перед закрытой дверью папки так, словно он переменил свое мнение, и у господина на законном основании не только ничего не отбирается, но напротив, ему еще что-то выделяется. Затем он шел дальше, но дверь все время держал в поле зрения, и когда господин, как это обычно случалось, осторожно приоткрывал дверь, чтобы втащить папки к себе, слуга в несколько прыжков оказывался там, просовывал ногу между дверью и косяком и таким образом вынуждал господина по крайней мере вступить с ним в непосредственные переговоры, которые, правда, обычно приводили лишь к полуудовлетворительным результатам. Если же это не удавалось или если по отношению к какой-то двери этот метод не казался ему правильным, он пытался действовать иначе. Тогда он, например, переключался на того господина, который требовал эти папки. Он отстранял второго слугу, работавшего чисто механически (совсем бесполезный помощник), и начинал сам уговаривать этого господина — шепотом, по секрету, глубоко засунув голову в комнату; скорей всего, он давал ему обещания и заверял, что при следующем распределении захвативший папки господин понесет соответствующее наказание, во всяком случае, он неоднократно указывал на дверь своего противника и смеялся, сколько позволяла его усталость. Но были и такие случаи, один или два, когда он все-таки отказывался от всяких попыток; правда, и тут К. полагал, что это только кажущийся отказ или, по крайней мере, отказ рассчитанный, так как слуга спокойно шел дальше, терпел, не оглядываясь, шум, поднятый обделенным господином, и только то, что временами он прикрывал глаза и долго не открывал их, показывало, что он от этого шума страдает. А потом постепенно успокаивался и тот господин: как непрерывный плач ребенка переходит во все более редкие всхлипывания, так было и с его криком, — но и после того, как становилось уже совсем тихо, все-таки время от времени раздавался одинокий вопль или быстро открывалась и захлопывалась его дверь. Во всяком случае, оказывалось, что и тут слуга действовал, по-видимому, совершенно правильно. В конце концов остался только один господин, который не желал успокаиваться; он надолго умолкал (но только для того, чтобы набраться сил), а затем начинал снова с не меньшей энергией, чем раньше. Было не очень понятно, из-за чего он так орет и возмущается, — возможно, совсем не из-за распределения папок. Тем временем слуга закончил свою работу, только одна-единственная — собственно, даже не папка, а только одна бумажка, один листочек из блокнота остался по вине помощника лежать в тележке, и теперь было неизвестно, кому его распределять. «Это запросто может быть моя папка, — подумалось вдруг К. — Староста же общины все время твердил о „самом мельчайшем случае“». И хотя такое предположение казалось надуманным и, в сущности, смехотворным ему самому, К. все же попытался приблизиться к слуге, задумчиво пробегавшему глазами бумажку; сделать это было не совсем просто, так как на симпатию К. слуга не отвечал взаимностью: даже занятый тяжелейшей работой, он все-таки находил время для того, чтобы, нервно вскидывая голову, бросать в сторону К. сердитые или нетерпеливые взгляды. Только теперь, закончив распределение, слуга, казалось, несколько забыл о К., да и вообще стал как-то безразличнее ко всему, что при его большой усталости можно было понять; этим листочком он тоже не особенно утруждал себя, возможно, он даже не читал его, а только делал вид, и, несмотря на то что господину из любой, наверное, комнаты в этом коридоре получение листочка доставило бы радость, он решил иначе, распределением он был уже сыт по горло; приложив указательный палец к губам, слуга подал своему спутнику знак молчать, разорвал листочек (К. был еще далеко от него) на мелкие кусочки и сунул их в карман. Это был, кажется, первый недостаток в работе с документацией, который К. здесь видел, впрочем, возможно, что и это он тоже неверно понимал. И даже если это был недостаток, его следовало простить: при тех порядках, которые здесь царили, слуга не мог работать безошибочно, рано или поздно все накопившееся раздражение, вся накопившаяся нервозность должны были у него прорваться, и если это выразилось в разрывании одного маленького листочка, то это еще было довольно безобидно. Ведь по коридору все еще неслись вопли не желавшего успокоиться господина, а его коллеги, которые в отношении прочего не проявляли особого дружелюбия друг к другу, относительно этого шума придерживались, кажется, совершенно единого мнения; постепенно получалось так, словно этот господин взял на себя задачу шуметь за них всех, а они своими возгласами и кивками только поощряли его продолжать начатое дело. Но теперь слуга уже не обращал на это внимания; работа его была кончена, он указал второму слуге на ручку тележки, чтобы тот за нее брался — и они стали удаляться так же, как пришли; оба заметно повеселели и шли так быстро, что тележка перед ними подскакивала. Только один раз они вздрогнули и оглянулись, когда все еще кричавший господин (перед дверью которого теперь крутился К., поскольку ему было интересно узнать, чего, собственно, этот господин хочет), очевидно уже не удовлетворенный своим криком и уставший кричать, обнаружил, по всей вероятности, кнопку электрического звонка и, очевидно, в восторге от такого облегчения принялся теперь непрерывно звонить. В ответ на звонок оживленно залопотали в других комнатах, видимо, это означало одобрение; господин, видимо, сделал что-то такое, что все бы уже давно с радостью сделали, — и только по какой-то неизвестной причине должны были от этого отказаться. Может быть, господин хотел вызвонить прислугу, может быть — Фриду? Тогда он мог долго звонить. Фрида же занята, обматывает Иеремию мокрыми платками, и даже если он теперь уже здоров, все равно у нее нет времени, потому что тогда она лежит в его объятиях. Но все же этот звон немедленно возымел эффект. Издалека уже спешил сам хозяин господского трактира; он был одет в черное и застегнут, как всегда, но бежал так, что казалось, будто он забыл о своем достоинстве: руки его были слегка растопырены, словно он был вызван в связи с каким-то большим несчастьем и бежал, чтобы схватить его и тут же задушить на своей груди, и всякий раз, когда звонок давал маленькие перебои, он, казалось, чуть-чуть подпрыгивал и начинал еще больше то-решиться. Позади хозяина на большом расстоянии от него появилась теперь и его жена, и она тоже бежала, растопырив руки, но шаг у нее был короткий и манерный, и К. подумал, что она явится слишком поздно, хозяин за это время уже сделает все, что нужно. И чтобы дать дорогу бегущему хозяину, К. тесно прижался спиной к стене. Но хозяин остановился прямо перед К., словно К. и был его целью, и тут же оказалась рядом хозяйка, и оба осыпали его упреками, которых в суматохе и ошеломлении он не понимал, тем более что примешивался еще звонок этого господина, и даже начали трещать другие звонки — уже без всякой необходимости, а только для развлечения и от избытка радости. Поскольку К. важно было точно уяснить свою вину, он весьма охотно позволил хозяину взять себя под руку и пошел с ним из этого шума, который все увеличивался, потому что теперь позади них (К. совсем не оборачивался, так как хозяин и с другой стороны — еще больше — хозяйка в чем-то настойчиво его убеждали) настежь открывались двери, коридор ожил, казалось, что там началось какое-то движение, как на оживленной узкой улочке; двери впереди явно нетерпеливо ждали, когда К. наконец пройдет и они смогут выпустить господ, и, наполняя все вокруг звоном, снова и снова включались звонки, словно празднуя какую-то победу. Но вот в конце концов (они уже были во дворе — все тот же тихий, белый двор и несколько застывших в ожидании саней) до К. понемногу стало доходить, о чем шла речь. Ни хозяин, ни хозяйка не могли себе представить, что К. осмелится сделать что-либо подобное. «А что он, собственно, сделал?» — снова и снова спрашивал К., но долго ничего не мог добиться, так как для них его вина была слишком самоочевидна и поэтому в его искренность они ни в малейшей степени не верили. Только очень не скоро К. понял все. Он не имел права находиться в коридоре, ему вообще был разрешен — самое большее — доступ в пивную, и то только из милости и во изменение прежнего решения. Если он был приглашен каким-то господином, он, естественно, должен был явиться туда, куда его пригласили, но при этом постоянно сознавать — по крайней мере, обычный человеческий рассудок-то у него, наверное, есть? — что находится в таком месте, где он, вообще говоря, посторонний, куда его только в высшей степени неохотно, — только потому, что этого требовала и это извиняла служебная необходимость, — позвал господин. Поэтому ему надлежало быстро появиться и подвергнуться допросу, а затем по возможности еще быстрее исчезнуть. Разве там, в коридоре, у него не возникло тягостного ощущения своей неуместности? Но если возникло, то как он мог бродить там, словно скот на выгоне? Разве не был он приглашен на ночной допрос и разве он не знает, почему ввели ночные допросы? Ночные допросы (и тут К. получил новое разъяснение их смысла) проводились якобы только с одной целью: чтобы тех посетителей, чей вид был господам невыносим днем, опрашивать ночью — быстро, при искусственном освещении, с возможностью сразу же после допроса всю эту мерзость заспать и забыть. Но К. своим поведением насмеялся над всеми мерами предосторожности. Даже привидения к утру исчезают, а К. оставался там, руки в карманах, так, словно считал, что раз он не исчезает, то исчезнет весь этот коридор со всеми комнатами и господами. И совершенно ясно, что так бы и произошло — и в этом он может не сомневаться, — если бы это хоть как-то было возможно, ибо деликатность господ безгранична. Ни один из них не подумает, допустим, прогнать К. или даже сказать ему ту, правда, самоочевидную вещь, что он должен наконец убраться; ни один из них этого не сделает, хотя они, пока там находится К., наверное, дрожат от возбуждения, и утро, их любимое время, для них испорчено. Вместо того чтобы принять меры против К., они предпочитают мучиться, правда, какую-то роль при этом, очевидно, играет надежда на то, что все-таки в конце концов и К. должен будет увидеть то, что бьет в глаза, и ему самому придется, соответственно мучению господ, терпеть муки, вплоть до невыносимых, оттого что он так ужасающе неуместно, у всех на виду стоит тут утром в коридоре. Напрасная надежда. Они не знают или по своей любезности или снисходительности не хотят знать, что бывают и такие бесчувственные, жестокие, не способные испытывать почтение сердца. Ведь даже ночной мотылек, жалкое создание, с наступлением дня отыскивает тихий уголок, распластывается, и рад бы исчезнуть, и несчастен оттого, что не может этого сделать. А К., наоборот, выставляется туда, где его лучше всего видно, и если бы он мог таким образом предотвратить наступление дня, он бы это сделал. Предотвратить он это не может, но задержать, затруднить это он, к сожалению, может. Разве не смотрел он на то, как распределяются папки? На то, на что никто, кроме непосредственных участников, не смеет смотреть. На что ни хозяин, ни хозяйка в своем собственном доме не должны, не имеют права смотреть. О чем им только намеками рассказывают иногда (как, например, сегодня) слуги. Разве он не заметил, с какими затруднениями проходило распределение папок, — нечто уже само по себе непостижимое, поскольку ведь каждый из господ служит только делу, никогда не думает о своих личных выгодах и поэтому всеми силами должен был бы стремиться к тому, чтобы распределение папок, эта ответственная, основополагающая работа шла быстро, и легко, и безошибочно? И неужели К. действительно даже отдаленно не догадывается, что главная причина всех затруднений в том, что распределение вынуждены были проводить при почти закрытых дверях, при невозможности непосредственного общения между господами, которые, естественно, в одну секунду смогли бы договориться друг с другом, тогда как переговоры через посредство слуг вынужденно тянутся чуть ли не часами, никогда не проходят гладко, представляют собой медленную пытку для господ и слуг и, скорей всего, еще отрицательно скажутся на последующей работе? Как это — почему господа не могли общаться друг с другом? Так, значит, К. все еще этого не понимает? Ничего подобного с хозяйкой (и хозяин, со своей стороны, подтвердил, что и с ним тоже) еще не случалось, а им ведь уже приходилось иметь дело со всякими упрямцами. Вещи, которые обычно не осмеливаешься даже произнести, ему приходится говорить в открытую, потому что иначе он не понимает самого необходимого. Ну так вот, раз уж это должно быть сказано, — из-за него, только и исключительно из-за него господа не могли выйти из своих комнат, потому что утром, сразу после сна они слишком стыдливы, слишком легко уязвимы, чтобы подставлять себя под чужие взгляды; будь они даже более чем полностью одеты, они все равно чувствуют себя слишком обнаженными, чтобы показаться. Поистине трудно сказать, чего они стыдятся; может быть, они, эти вечные труженики, стыдятся только лишь того, что они спали. Но, может быть, еще больше, чем показаться, они стыдятся увидеть чужих людей; они не хотят, чтобы эти столь труднопереносимые для них лица посетителей, вид которых они с помощью ночного допроса благополучно преодолели, вдруг теперь, утром снова появились перед ними во всей своей неприкрытой наготе. Они просто к этому не готовы. Каким же надо быть человеком, чтобы этого не уважать? Да, это надо быть таким человеком, как К. Человеком, который с вот таким тупым и сонным равнодушием пренебрегает всем, не только законом, но и самой обычной человеческой тактичностью, которому совершенно не важно, что он делает почти невозможным распределение папок и вредит репутации дома, и что из-за него произошло то, чего еще никогда не бывало, — что доведенные до отчаяния господа, совершив над собой немыслимое для обычных людей усилие, сами начали защищаться, схватились за звонки и позвали на помощь, чтобы прогнать этого К., которого ничем другим не проймешь! Они, эти господа, позвали на помощь! Да разве хозяин, и хозяйка, и весь их персонал не прибежали бы сюда уже давно, если бы только они посмели без вызова утром появиться перед господами — пусть даже только для того, чтобы оказать помощь и потом сразу же исчезнуть. Дрожа от негодования, в отчаянии от своего бессилия, они ждали здесь, в начале коридора, и эти, в сущности, абсолютно неожиданные звонки были для них просто избавлением. Ну, самое худшее уже позади! Если бы они могли хоть одним глазом взглянуть на веселое оживление наконец-то освобожденных от К. господ! Для К., впрочем, еще не все позади: за то, что он тут учинил, ему безусловно еще придется ответить.