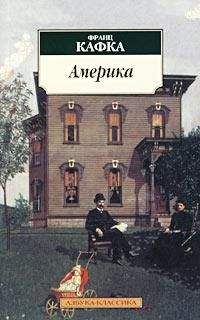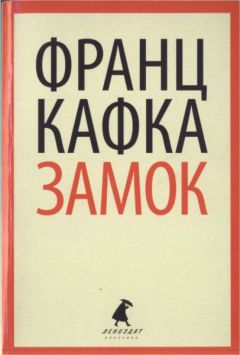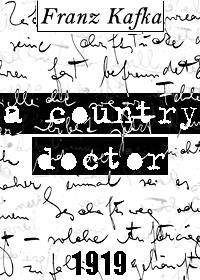Франц Кафка - Замок
К. спал, отрешившись от всего, что произошло. Голова его, вначале лежавшая на левой, вытянутой поверх спинки кровати руке, во сне соскользнула и теперь висела в воздухе, медленно опускаясь все ниже; опоры вверху на руку было уже недостаточно, и К. бессознательно нашел себе еще одну, упершись правой рукой в одеяло, при этом случайно попал как раз на вытянутую под одеялом ногу Бюргеля и ухватил ее. Бюргель внимательно посмотрел и оставил ему ногу, несмотря на те неудобства, которые, возможно, испытывал.
В этот момент раздались сильные удары в боковую стену. К., вздрогнув, проснулся и посмотрел на стену.
— Там не землемер? — спросил чей-то голос.
— Да, — отозвался Бюргель, отнял у К. свою ногу и неожиданно, бурно и шаловливо, как маленький мальчик, потянулся.
— Так пусть он наконец идет сюда, — снова сказал голос; ни присутствие Бюргеля, ни то, что К. еще мог быть ему нужен, во внимание не принималось.
— Это Эрлангер, — шепотом сказал Бюргель; то, что Эрлангер был в соседней комнате, его, кажется, не удивило. — Идите к нему сразу, он уже злится, постарайтесь его успокоить. У него хороший сон, но мы все-таки слишком громко разговаривали; когда говоришь о некоторых вещах, невозможно сдерживать ни себя, ни голос. Ну идите же; вы, кажется, даже проснуться не в состоянии. Идите, чего еще вы здесь, собственно, ждете? Нет, можете не извиняться за вашу сонливость, зачем же? Телесных сил нам хватает только до известного предела, кто виноват в том, что именно этот предел так важен и для остального? Нет, в этом никто не виноват. Так мир сам себя корректирует в своем движении и сохраняет равновесие. Это ведь превосходно устроено, всякий раз непостижимо превосходно, даже если это в ином отношении и прискорбно. Ну идите, я не понимаю, почему вы на меня так смотрите. Если вы еще протянете, Эрлангер примется за меня, а я бы очень желал этого избежать. Идите же, кто знает, что вас там ждет, тут же везде полно возможностей. Правда, есть такие возможности, которые в некотором роде слишком велики, чтобы их использовать; есть вещи, которые разбиваются не обо что-то другое, а о самих себя. Н-да, это достойно удивления. Впрочем, я все-таки надеюсь, что смогу теперь немного поспать. Правда, уже пять часов и скоро начнется весь этот шум. Если б хоть вы, по крайней мере, соблаговолили уйти!
Оглушенный внезапным пробуждением от тяжелого сна, все еще бесконечно сонный, с болью во всем теле от неудобного положения, К. долго не мог решиться встать, держался за лоб и смотрел вниз, на застежку своих брюк. Даже непрерывные попытки Бюргеля распрощаться не могли заставить его уйти, только ощущение бесполезности дальнейшего пребывания в этой комнате постепенно склоняло его к этому. Комната казалась ему теперь невыразимо тоскливой. Стала ли она такой или всегда такой была, он не знал. Даже заснуть здесь снова он бы не смог. Эта уверенность оказалась решающей; немного усмехаясь этому, К. поднялся и, опираясь на все, на что только можно было опереться: на кровать, на стену, на дверь — и не говоря ни слова, как будто давно уже попрощался с Бюргелем, вышел, не кивнув, из комнаты.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Скорей всего, он с тем же безразличием прошел бы мимо комнаты Эрлангера, если бы Эрлангер не стоял в дверях и не поманил его. Один короткий пригласительный жест указательным пальцем. Эрлангер был уже совсем готов ехать: он стоял в черном меховом пальто с узким воротником, застегнутым под самой шеей. Слуга как раз протягивал ему перчатки и держал наготове меховую шапку.
— Вы должны были уже давно прийти, — заметил Эрлангер.
К. хотел извиниться. Эрлангер, устало закрыв глаза, показал, что это можно опустить.
— Дело в следующем, — сказал он. — В пивной раньше служила некая Фрида, я знаю только ее имя, ее саму я не знаю, она меня не интересует. Эта Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там, кажется, какая-то другая девушка. Ну, это изменение, естественно, не имеет значения, по-видимому, ни для кого, а для Кламма — совершенно точно. Однако, чем больше выполняемая работа, а работа Кламма, разумеется, самая большая, тем меньше остается сил для того, чтобы защищать себя от внешнего мира, вследствие чего любое незначительное изменение незначительнейшей вещи может уже серьезно мешать. Малейшее изменение на письменном столе, удаление какого-нибудь с незапамятных времен сидевшего там грязного пятна — все это может мешать, и точно так же — новая подавальщица. Ну, даже если кому-то другому при какой угодно другой работе это бы и мешало, Кламму все это, разумеется, не мешает, об этом не может быть и речи. Тем не менее мы настолько обязаны заботиться об удобствах Кламма, что устраняем даже те помехи, которых для него не существует (а скорей всего, их для него вообще не существует), если они производят на нас впечатление возможных помех. Мы устраняем эти помехи не ради него и не ради его работы, а ради нас, чтобы наша совесть была спокойна. И потому эта Фрида должна немедленно вернуться обратно в пивную; возможно, она помешает как раз своим возвращением, ну, тогда мы ее снова уберем, но пока что она должна вернуться. Вы, как мне сказали, живете с ней, поэтому немедленно обеспечьте ее возвращение. Личные чувства здесь, конечно, не могут приниматься во внимание, это само собой разумеется, потому я и не намерен пускаться ни в какие дальнейшие разъяснения этого дела. Я сделаю уже значительно больше, чем требуется, упомянув, что, если вы в данном частном пункте себя зарекомендуете, это при случае может оказаться полезным для обеспечения вашего существования. Это все, что я имею вам сказать.
Он кивком распрощался с К., надел поданную слугой шапку и быстро, но слегка прихрамывая, зашагал в сопровождении слуги по коридору.
Иногда здесь отдавали приказы, которые было очень легко исполнить, но эта легкость не радовала К. И не только потому, что приказ касался Фриды, и, хоть и был высказан как приказ, для К. звучал насмешкой, но главным образом потому, что он убеждал К. в бесполезности его устремлений. Все эти приказы гремели над ним, но не задевали его; были приказы неприятные, и были приятные, и даже приятные в глубине, наверное, тоже содержали неприятную начинку, — как бы там ни было, они не задевали его, а он оказался слишком далеко внизу и никак не мог вмешаться или тем более заставить их умолкнуть, чтобы услышали и его голос. Если Эрлангер тебя выставляет — что ты можешь сделать? А если бы не выставил — что бы ты ему сказал? К. по-прежнему сознавал, что его усталость повредила ему сегодня больше, чем все неблагоприятные стечения обстоятельств, но почему же он не смог вынести этих нескольких тяжких ночей и одной бессонной, — ведь он считал, что на свое тело он может рассчитывать, и без такого убеждения вообще не пустился бы в этот путь, — откуда такая непреодолимая усталость именно здесь, где никто не был усталым или скорее где каждый и все время был усталым, но это не вредило работе — даже, напротив, кажется, ускоряло ее. Отсюда следовал вывод, что это была какая-то совершенно иная усталость, чем усталость К. У них, по-видимому, была усталость от счастливой работы, нечто такое, что внешне выглядело как усталость, а по существу было несокрушимым миром, несокрушимым покоем. Если к обеду немного устаешь, то ведь это нормально для счастливого, естественного течения дня. «У этих господ здесь непрерывный обед», — сказал себе К.
И это хорошо согласовывалось с тем, что теперь в пять часов утра везде, по обе стороны коридора, царило оживление. В этом смешении голосов из комнат было что-то ужасно веселое. В какой-то момент это было похоже на восторг детей, собравшихся на прогулку, в другой — на переполох в курятнике, на радость существования в полном согласии с просыпающимся днем; где-то некий господин даже подражал крику петуха. Сам коридор был еще пуст, но двери уже пришли в движение, ежесекундно какая-нибудь из них приоткрывалась и тут же снова закрывалась, в глазах рябило от этого открывания-закрывания дверей; К. заметил еще, что вверху, в просветах между недоведенными доверху стенами и потолком, то тут, то там появлялись и сразу же исчезали по-утреннему растрепанные головы. Издалека медленно приближалась подталкиваемая слугой маленькая тележка, нагруженная папками. Рядом шел второй слуга, в руке он держал какой-то список и, очевидно, сравнивал по нему номера на дверях с номерами папок. Перед дверями тележка, как правило, останавливалась, обычно после этого дверь открывалась и соответствующие папки (а иногда только какой-нибудь листочек — в таких случаях между комнатой и коридором происходил небольшой разговор, по всей видимости, упрекали слугу) передавались в комнату. Если дверь оставалась закрытой, папки аккуратно складывались на пороге. В таких случаях волнение соседних дверей, как показалось К., не ослабевало, даже если папки туда уже были распределены, а скорее усиливалось. Видимо, соседи алчно высматривали эти непостижимым образом еще не взятые с порога папки, они не могли понять, как это может быть, что кому-то нужно только открыть дверь, чтобы завладеть своими папками, — и он этого не делает; возможно даже, что так и не взятые папки позднее распределялись между другими господами, которые уже теперь поминутно выглядывали, желая убедиться, что папки все еще лежат на пороге и что у них, следовательно, все еще есть надежда. Кстати, лежать оставались особенно большие стопки папок, и К. предположил, что их нарочно оставляли полежать: из своеобразного хвастовства, или из злобы, или из расчетливой гордости, чтобы подразнить коллег. В этом предположении его укрепляло то, что время от времени (всякий раз именно тогда, когда он в ту сторону не смотрел) такая стопка, после того как она уже достаточно долго выставлялась напоказ, неожиданно и поспешно втаскивалась в комнату; дверь затем вновь неподвижно застывала, и двери вокруг тогда тоже успокаивались — разочарованные или, может быть, удовлетворенные тем, что причина их постоянного раздражения наконец устранена; однако потом они постепенно снова приходили в движение.