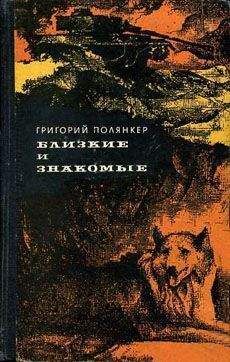Жак Стефен Алексис - Деревья-музыканты
На следующее утро, едва защебетал пипирит, лейтенант Эдгар Осмен уже был в седле, бледный, возбужденный, с огромной повязкой, державшей плечо в неподвижности. Его вчерашняя ярость не прошла, и, несмотря на советы окружающих, он решил действовать. Лейтенант поклялся дать такой страшный урок жителям, что они вовек его не забудут. Он хотел схватить преступника, а если тот скрылся, арестовать его семью. Однако, подъехав к хижине, на которую ему указал начальник округа, Эдгар не нашел там ни души. Соседние лачуги тоже опустели. Все соседи исчезли, и, конечно, жена Дессена вместе с ними! Лейтенант арестовал Мондестена Плювиоза, который, по словам Жозефа Будена, был близким другом Аристиля, но больше ему никого не удалось схватить. Мондестен был отправлен в город под усиленным конвоем, и облава продолжалась. Но, пожалуй, легче было бы найти иголку в копне сена!
По дороге им встретились несколько семей, уже покидавших насиженные места. В самом деле, фермерам и издольщикам нечего было ждать. Земля не принадлежала им, следовательно денег они не получат, и проще, не мешкая, уйти. Люди грузили свой скарб — старые циновки, старые горшки, старые чугуны — на спину ослов и мулов или же взваливали поклажу на собственную голову. Малыши, сидевшие на закорках у матерей, с удивлением озирались по сторонам. Дети постарше были в восторге от этого путешествия всей семьей, они резвились по сторонам дороги, затем мчались со всех ног, догоняя родителей, и получали от них взбучку. Другие крестьяне стояли у порога с трубкой в зубах и смотрели на это зрелище, ни словом не выдавая своей ненависти к грабителям, своего гнева, скованного нерешительностью, отчаянием. Выражение лиц было замкнутое, непроницаемое — под пеплом в душах людей тлел огонь. Никто больше не выходил в поле. К чему отныне сеять, полоть?.. Разговоров не было слышно. Молчание — это крестьянская добродетель, теперь же оно нависло над землею, и движения людей стали медлительнее, походка тяжелее, усмешка горше.
— Так, значит, вы уходите, братья?..
— Да, уходим, братья!.. Ничего не поделаешь!..
— Ну что ж, да будет с вами милость божья!
— И с вами да будет милость божья, братья!..
Стояла полная тишина, нарушали ее только крики мулов, шелест листвы под ветром и безотчетные шорохи жизни. Чувствовалось, конечно, что людей тянет друг к другу, но они безмолвствовали. Они стояли неподвижно, кучками, подперев щеку рукой. Они едва осмеливались смотреть друг на друга. Что говорить? Что делать? Только одно — быть вместе, зная, что одни и те же заботы одолевают их всех. Однако то было затишье перед грозой. Напряжение росло, люди понимали — гроза бесполезна, и, однако, жаждали ее. Она была необходима, она облегчила бы их душу, как крик, дающий исход нестерпимой боли. А что, если грозы не будет? Неужели придется уйти при звуках деревянного колокола, уйти, как нищим, как простым батракам, как жалким издольщикам? Когда человеку не за что уцепиться, он довольствуется попыткой к действию, самообманом. Крестьяне не раз предпочитали длительной засухе бурю, грозившую уничтожить их посевы. По крайней мере, она нарушала бесконечное мучительство злого рока, приходили другие беды, но небо уже не было таким синим, таким плоским, пустынным и унылым. Одна беда прогоняет другую. Но дли того, чтобы в Ремамбрансе произошли перемены, надо было заронить искру в души людей. Вспыхнет ли эта искра? Если вспыхнет, пожар будет ужасен...
Богатые крестьяне и те отказались от своей обособленности. Прежде они ждали, чтобы соседи первые подошли к ним, поздоровались, отдали им дань уважения, а теперь сами подходили к мелким землевладельцам, смешивались с группами бедняков, понимая, что единственно правильный выход — это раствориться в массе людей, владеющих крошечными земельными наделами. Сколько клинков вонзилось в сердца людей!
Главный жрец исчез! На месте древнего святилища дымились развалины! Смельчак Аристиль где-то скрывался или, избегая погони, бежал прочь от всей этой красоты — зелени, цветов, птиц! Издольщики уходили небольшими кучками куда глаза глядят. Аннаис, Алоис, Борно, Симеон, Мари-Жанна и столько других брели по большой дороге, теряясь в облаках пыли и ослепительных лучах солнца. Быть может, они навсегда простились с друзьями и теперь уносили с собой много дорогих сердцу воспоминаний!..
Лейтенант Эдгар Осмен все еще ездил верхом, расспрашивая прохожих. Поразительное дело, неужели среди обездоленных, несчастных крестьян не найдется ни одного человека, готового за хорошее вознаграждение дать начальнику требуемые сведения? Но встречные отвечали в один голос, что они ничего не знают об Аристиле.
— Аристиль Дессен? Вы говорите, Аристиль?
И на лицах появлялось недоуменное выражение.
Ночь снова опустилась на землю, но старец словно не чувствовал прохлады, которая струилась отовсюду сквозь заросли маиса. Буа-д’Орм неподвижно лежал на спине. Он не пошевелился со вчерашнего дня. Все та же загадочная улыбка блуждала на его губах. Он жил какой-то странной жизнью. Казалось, он ничего не ощущал — ни маленьких красных муравьев, которые ползали по его ногам, ни назойливого стрекотания цикад, ни даже сильного острого запаха бальзамина, росшего в нескольких шагах от него. Он лежал здесь со вчерашнего дня, под сводом склонившихся стеблей маиса, не ел, не пил, не испытывал никаких желаний и в полной неподвижности ждал смертного часа. В душе у него был ни с чем не сравнимый покой. Он даже не думал, — нет, он угасал.
Жесткие листья шелестят, ударяясь друг о друга, синева небес становится все гуще, все темнее, зажигаются звезды, сперва бледные, потом серебристые. Звезды! Уйдет ли он в мир звезд? Будет ли парить высоко над землей, перелетая от созвездия к созвездию? Стоит ли там, во вселенной, тишина или слышится волшебная музыка? Почему боги не открывают людям с чистым сердцем непостижимого устройства этого сияющего мира, усеянного звездной пылью, — царства неземного покоя, величайшей гармонии, где нет ни желаний, ни грез, ни реальности, царства неизъяснимого блаженства?
— Я верю, лоасы!.. Я верю, господи! Я умираю, и я верю! Нет, я не сомневаюсь!.. Возможен ли рай, если сомнение остается в душе? Сомнение хуже всякого ада! И, однако, мы живем лишь потому, что постоянно, поминутно сомневаемся!.. Разве могла бы существовать мысль, не будь сомнения?.. Душа есть обиталище веры и сомнения! Какими мы становимся несчастными, растерянными, оставаясь наедине с собой в последнюю минуту!.. Дайте мне силу верить до конца, дайте мне силу смириться! Я должен верить! Я верю, потому что бездна небытия слишком ужасна, потому что вечная смерть кажется мне отвратительной, лоасы!.. Я верю, верю во все, чему меня учили, верю во все, что, кажется мне, я познал путем откровения. Я верю!..
Буа-д’Орму Летиро хотелось вступить живым в вечность, но он по-прежнему лежал, а часы текли. Звезды смотрели на землю насмешливым и сверкающим взглядом; вдали, на склонах холма, зажигались и гасли большие костры, словно горцы соперничали со светилами, создавая искусственные солнца. Буа-д’Орм покончил счеты с жизнью, скоро ночь для него будет такой глубокой, что он потеряет всякое представление о мире и о себе самом.
Откуда-то донеслись петушиные голоса. Вдруг ткань тишины поредела, распалась. Возможно, это была лишь иллюзия или шаги вестника смерти?.. Однако никто не появлялся. Буа-д’Орм не мог сказать в точности, когда его ухо уловило неясный шум. Звук был далекий, слабый, но слышался вполне явственно.
...Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк!..
Тогда впервые за двое суток Буа-д’Орм пошевелился. Он напряг мускулы шеи и поднял голову. Глубоко вздохнув, почесал ногу. Барабан приближался: ...Тэ-тэк, тэк, тэ-тэк!..
Старец приподнялся на локтях и прислушался. Неужто опять они? Или это наваждение? Он сел. Жив он или умер?.. Надо хорошенько порыться в далеком прошлом, чтобы всплыло воспоминание об этом звуке. Дело было сорок или пятьдесят лет назад, во время жестоких гражданских войн, раздиравших страну. Некий генерал Серафен Дюгазон, хитроумный оборотень, забрал большую власть в здешних местах. Пришлось вести непримиримую борьбу с этим важным лицом, пособником дьявола и опасным колдуном. Как-то ночью, когда генерал Дюгазон выкидывал на перекрестке свои коленца вместе с кучей других «шампоелесов», Буа-д’Орм захватил его врасплох и благодаря своей гипнотической силе усыпил в сатанинской позе. Колдун, одетый в отвратительные лохмотья, простоял до полудня на голове со скрещенными в воздухе ногами. Весь народ мог видеть его. Когда же Буа-д’Орм пробудил генерала Дюгазона от гипнотического сна, тот удрал из Фон-Паризьена, и с тех пор здесь больше не появлялись ни он сам, ни иные оборотни.
Барабан трещал теперь не переставая, монотонно, отрывисто, зловеще. Буа-д’Орм встал, шатаясь, и оперся на палку, чтобы не упасть. Он с силой вздохнул, сорвал пучок бальзамина, растер листья, понюхал их, взял в рот. Почувствовав себя бодрее, он двинулся на звук барабана.