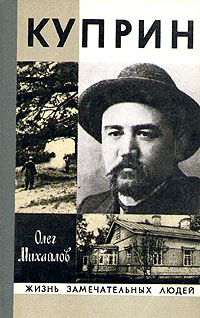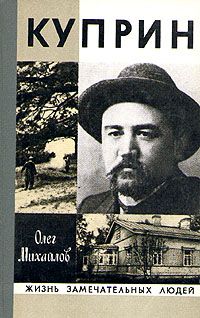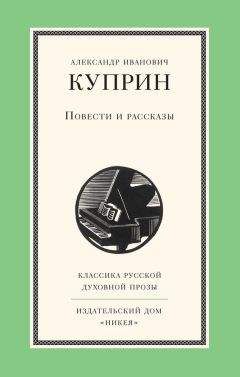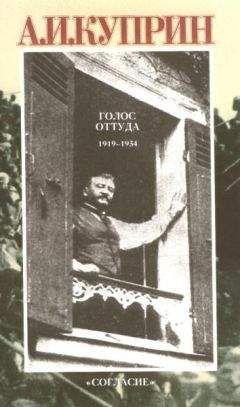Олег Михайлов - Куприн
Тот не шевельнулся. Казалось, он был глух и нем. Никандров в изумлении посмотрел на его посетителей, как бы прося помощи.
— Он никого не узнает, кроме жены! — громко сказал Каменский.
— Это после второго удара в Париже, — так же громко добавил Билибин и, не стесняясь присутствия Куприна, начал подробно рассказывать о его болезни и двух апоплексиях.
Никандров был ошеломлён.
— Присаживайтесь к столу, — пригласила Елизавета Морицовна.
На столе было красное вино и черешня. Никандров выпил бокал, съел несколько черешен и не переставал чувствовать, как всё в нём мучительно дрожит.
Немного освоившись, он начал громко напоминать Куприну о его любимцах — трёх русских силачах:
— Александр Иванович! Как вы любили трёх Иванов! Ивана Поддубного, Ивана Заикина и третьего — забыл его фамилию... Это был замоскворецкий купец, который стал известным борцом-циркачом...
Куприн никак не реагировал на эти воспоминания. И вдруг жалобно-жалобно произнёс, как бы силясь что-то понять:
— Ваня Заикин... Ваня Заикин...
И снова замолк.
Тогда Никандров заговорил о знакомых им обоим рыбаках — атаманах баркасов, известных на всём побережье Чёрного моря — Юре Паратино, Фёдоре из Олеиза, Христо Амбразаки, Ване Андруцаки, Коле Костанди, Сашке Аргириди, Капитанаки, героях повести «Листригоны».
И чисто механически Куприн повторил за Никандровым последнюю фамилию:
— Капитанаки...
После Никандрова Куприна навестили поэт Скиталец, создатель знаменитых «Сред» Телешов[85] и, конечно, первая жена Мария Карловна.
Время всё лечит. Две жены Куприна расцеловались. После их встречи в Выборге протекло семнадцать лет.
— А где Александр Иванович? — спросила Мария Карловна.
— Он отдыхает в другой комнате, — отвечала Елизавета Морицовна. — Когда увидишь его, не удивляйся, Муся, он очень болен...
Мария Карловна увидела на диване полное Собрание сочинений Куприна, вышедшее приложением к журналу «Нива» в 1912—1915 годах.
— Это принёс Вася Регинин, — объяснила Елизавета Морицовна, — Он сейчас трудится над интервью с Сашей...
Вошёл Куприн. Мария Карловна увидела маленького, худенького старичка в очках. Первые минуты её сознание не мирилось с этим, настолько он был не похож на себя.
— Муся, он почти ничего не видит, — предупредила Елизавета Морицовна.
— Кто это, Лиза? — с беспокойством спросил Куприн.
Голос его был хриплый, негромкий и без всяких интонаций.
— Муся пришла.
— Сашенька, это я, Маша.
— Маша? — Куприн узнал её по голосу, — Подойди ближе. Ты где-то далеко, я тебя не вижу...
Мария Карловна подошла к Куприну. Различать собеседника он мог только под определённым углом.
— Как поживает дядя Кока? — спросил Куприн о брате Марии Карловны, с которым раньше был очень дружен.
— Николай Карлович умер в пятнадцатом году, Саша, — ответила та.
— Лида тоже умерла, — сказал Куприн об их общей дочери и замолчал.
От прежней жизни в его памяти удержались только три имени: дядя Кока, Маша и Лида.
Уходила Мария Карловна от Куприных с тяжёлым чувством. Елизавета Морицовна просила чаще бывать у них, а Куприн, прощаясь, сказал:
— Передай от меня поклон дяде Коке...
2
А в соседнем маленьком номере для прислуги Василий Регинин, которому дали в помощь молодого журналиста из «Известий» Николая Вержбицкого, готовил несколько материалов о знаменитом писателе. Прежде всего, надо было дать отчёт о приезде Куприна.
«В беседе с сотрудником «Известий» — ложились бодрые строчки, — А. И. Куприн выразил чувство огромной радости, испытываемой им в связи с возвращением на родину, о котором он давно мечтал.
— В последние дни перед отъездом из Парижа, — рассказывает А. И. Куприн, — меня охватило такое нетерпения, что я готов был идти в Москву пешком. Я счастлив, что наконец слышу вокруг себя родную речь. Я никак не мог прийти в себя от радости, от чуда, что я снова у себя на родине. Я давно мечтал повидать новую Россию, новое её поколение, окрепнуть здесь, на родной земле, и снова начать писать. Я бесконечно признателен советскому правительству, давшему мне возможность вернуться в родную страну, оторванность от которой я так остро переживал все эти годы».
Готовые клише двух рядовых разбойников пера рождали очередную газетную утку. После отчёта было решено взять у Куприна интервью.
— Предлагаю название: «Душа отогревается», — сказал Регинин. — Это утеплит тему...
— Итак! — подхватил Вержбицкий: — «Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине, — это люди, теперешняя молодёжь, дети...»
— Хорошо, Коля, — подбодрил молодого человека Регинин. — Но будем конкретнее. Например, про метро. Давай сводим Куприна в метро: «Необыкновенно комфортабельное метро, которое, конечно, не идёт даже в сравнение с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном дворце, озарённом солнцем, а не глубоко под землёй. Таких широких проспектов, как в Москве, нет и за границей. В общем, родная Москва встретила меня на редкость приветливо и тепло...»
— А теперь о москвичах? — предложил Вержбицкий.
— Совершенно верно! «Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идёт навстречу незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!» — и спешит дальше. Кто он? Откуда меня знает? Вероятно, видел фотографию, помещённую в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины...»
— Надо дать кого-нибудь из низов. Помнишь, Вася: «кухарка, управляющая государством».
«Молодой, да ранний», — подумал о Вержбицком Регинин и тотчас согласился:
— Давай! Жми!..
— «Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку: «Я — домработница такая-то. Вы писатель Куприн? Будем знакомы...»
— Хорошо, Коля! Теперь развернём культурную программу. «Я побывал в кино и в «Метрополе». Шла цветная картина «Груня Корнакова». Каюсь, я следил за экраном только краем глаза. Моё внимание было занято публикой. Можно сказать, что в картине «Груня Корнакова» мне больше всего понравилось, как её воспринимает зритель, сколько простого, непосредственного веселья, сколько темперамента! Как бурно и ярко отзывались зрители — в большинстве молодёжь — на те события, которые проходили перед нами! Какими рукоплесканиями награждались режиссёры и актёры!..»
— И развернём пошире: «Многое хочется увидеть, о многом хочется поговорить. Я предполагаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино «Господа офицеры» (пьесу, переделанную из моего «Поединка»), «Тихий Дон», «Любовь Яровую», «Анну Каренину», «Петра I». Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь по-прежнему...»
— А не переборщили? — застенчиво сказал Вержбицкий.
— Маслом каши не испортишь, — улыбнулся Регинин и предложил отправиться к Куприным. Завизировать материалы.
Елизавета Морицовна поставила журналистам бутылку вина. Они читали ей сочинённые ими тексты, а она спрашивала:
— Ты так говорил, Саша?
И тот беспомощно отвечал:
— Да, Лиза.
— Тебе в Москве нравится?
— Нравится, — повторял Куприн слова жены.
Тогда Елизавета Морицовна взяла руку мужа и вывела автограф.
Вскоре Куприны переехали в подмосковный Дом творчества писателей «Голицыно».
3
Условия были прекрасные: четыре комнаты, большой сад с грядками и клумбами, готовое питание и милая девятнадцатилетняя девушка Аня, ежедневно приходившая прибирать квартиру. Их теперь почти никто не навещал, а из журналистов к Куприну был допущен лишь один Вержбицкий. Елизавета Морицовна — «мамочка» и кошка — новая Ю-ю — такова была теперь семья Куприна.
Он, кажется, немного пришёл в себя, хотя почти ничего не видел и часто жаловался на сердце. Со дна памяти поднялся образ старого друга — художника Щербова, который доживал свой век в Гатчине, и, конечно, единственной дочки Ксении. Писать ей в Париж Куприн, понятно, не мог, не было сил, и это делала Елизавета Морицовна:
Москва. 26.VI. 1937.
«...Папа тоскует без тебя, кажется, больше меня — по нескольку раз в день спрашивает: да когда же она приедет?»
Приедет? Куда? В Москву? Но Ксению Александровну, Кису, по-прежнему увлекала артистическая карьера, «синема», свет юпитеров, поклонение, мужчины, слава. Понимая это, Елизавета Морицовна осторожно писала ей: