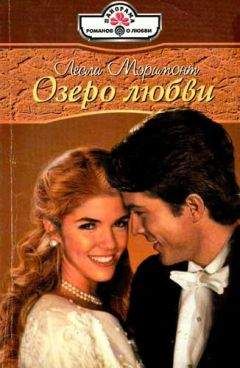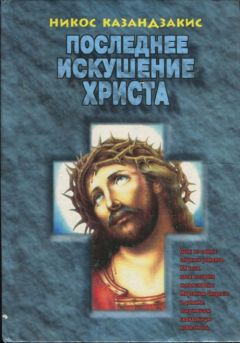Никос Казандзакис - Христа распинают вновь
— Пусть бог меня простит, сын мой, но сегодня впервые я не почувствовал воскресшего Христа.
Манольос примерял вырезанную им деревянную маску к своему лицу, чтобы проверить, хорошо ли она держится. Однажды Никольос застал его с маской на лице и начал громко смеяться.
— Манольос, ты впадаешь в детство, мне кажется, ты играешь с этой маской, вот и все!
Манольос улыбнулся.
— Нет, не играю, — сказал он и замолчал.
Никольос уже несколько дней вертелся около Манольоса, хотел с ним поговорить, но слова застревали в горле у пастушонка. Сегодня он наконец решился, подошел, уселся рядом со своим хозяином, наклонился, посмотрел на вырезанную деревянную маску, но мысли его блуждали далеко. Наконец он толкнул коленом Манольоса.
— Манольос, эй, Манольос! — позвал он громко, словно тот находился на противоположной горе и нужно было кричать.
— Говори, Никольос, но не кричи, говори тихо, я слышу.
— Я тебе скажу кое-что, только ты не сердись, слышишь?
— Не буду сердиться, Никольос, говори и не толкай меня коленом, — больно.
— Я женюсь на Леньо! — крикнул Никольос и крепко сжал свой тяжелый пастушеский посох, готовясь убить Манольоса, если тот кинется на него.
Манольос улыбнулся.
— Я знаю, — сказал он.
Никольос вытаращил глаза.
— Ты знаешь? — спросил он. — Ты это знаешь и не бросаешься на меня? Я бы, клянусь хлебом, которым питаюсь, я бы убил тебя!
— Я поздравляю вас обоих; будьте здоровы, счастливы, живите до старости, плодите детей, чтобы выросли они хорошими людьми.
— Это как-то не укладывается у меня в голове, — пробормотал Никольос задумчиво. — Ты не убьешь меня?
Манольос протянул руку и обнял пастушонка.
— Да неужели же ты меня не убьешь? — снова повторил Никольос с беспокойством.
— Нет, нет, дорогой Никольос, я не убью тебя, — сказал Манольос и снова улыбнулся.
Никольос вдруг испуганно вскочил, взглянув на Манольоса, который опять занялся своей маской.
«Он болен, несчастный, винтик какой-то у него развинтился, уйду-ка я лучше», — мелькнуло у него в голове. Он отбежал в сторону, сунул пальцы в рот и засвистел; к нему подбежали овчарки, подошли овцы. Никольос снова находился среди знакомых ему животных, к которым он привык; те его тоже знали. Он успокоился…
На минуту в мыслях Манольоса промелькнула Леньо — полненькая, мягкая, задорная, как две капли воды похожая на Никольоса. Положив на колени маску, он задумался.
«Желаю им всего доброго, — прошептал он. — Они пошли по той дороге, которую указал бог на земле людям. Я же хочу пойти по иному пути — без жены, без детей, без радости; я отказываюсь от мира сего, отряхаю со своих ног прах земной… Прав ли я? Христос был прав, но он бог. И не будет ли это высокомерием, если человек захочет пойти по стопам бога?»
Он не мог найти ответа. В критические минуты своей жизни он никогда не спрашивал, а уверенно шел вперед. Он никогда не чувствовал себя таким уверенным и таким искренне счастливым, как в тот день, когда его связали и повели вешать. Но в обычные дни, когда он не испытывал душевного подъема, его мучили многие вопросы. Он робел и терялся.
Позавчера он ходил на Саракину, хотел встретиться там с отцом Фотисом и попросить у него поддержки. Может быть, тот тоже переживал душевную тревогу и протянул бы ему руку помощи? Но он не застал старика, тот ходил по окрестным деревням, просил милостыню. Поэтому Манольос вернулся в свое уединение, снова взялся за евангелие, и теперь оно должно было ответить ему на все его вопросы.
Он открыл маленькое евангелие, как открывают в жаркий день дверь, выходящую на море, и с головой окунулся в священные тексты. Он сразу позабыл о мучивших его вопросах; они как бы вылетели у него из головы, — его сердце само давало на все ответы.
Он вскочил на ноги, раз-другой прошелся резцом по обратной стороне маски Христа, подогнал ее к своему лицу, — маска была ему в самый раз.
— Слава тебе, господи! — сказал он. — Работа закончена.
Он поклонился маске, пошел в сарай и повесил ее там на стене, рядом со старинной иконой, изображавшей сцену распятия и ласточек, летающих вокруг креста.
В этом году на сельском празднике не будет задорной вдовы Катерины… Каждый год в этот день она умывалась с вечера, намазывала свои волосы лавровым маслом, чистила зубы ореховыми листьями, надевала на шею ожерелье из голубых камней, которое защищало ее от злого глаза, и поднималась на гору к церкви пророка Ильи. Поднималась одна, никто не подходил к ней, и она у всех на виду преклоняла колена перед иконой огненного пророка. И грозный пророк сурово смотрел на нее, но он не мог выйти из красок и серебряных пластинок, в которые заключили его верующие, — вдова знала это и безбоязненно прикладывалась к нему своими алыми губами.
Но теперь вдова покоилась под землей. Все исчезло — волосы, губы, щеки, шелк. Только зубы оставались белыми под землей и, наверно, блестели, как белая галька на морском берегу.
И Панайотарос тоже не пошел в этом году на сельский праздник. Он все еще лежал в постели и беспрерывно ругался. Но его две дочери тайком вышли за ворота и направились к церкви, смуглые, толстенькие, с густым пушком на верхней губе и потными, пахнущими мускусом подмышками. Они походили на диких зверей, которым вдруг стало тесно в клетке, и вот, выйдя на улицу, они бросали жадные, умоляющие взгляды направо и налево, отыскивая самца. Будь они коровами, замычали бы жалобно; будь они львицами — заревели бы ночью, и всколыхнулся бы лес; будь они кошками — катались бы по земле или мяукали на крышах; но они были девушками и поэтому опускали глаза, когда проходил мимо какой-нибудь юноша, и только хихикали ему вслед, потешаясь над ним:
— Смотри, бедняга совсем горбатый; а у этого какие некрасивые ноги, а вон тот — молодец!
И они злились на молодца, потому что тот проходил и не кидался на них, не бросал их на камни.
Поднимался к церкви и парикмахер Андонис. Был он небрит, потому что было у него много работы и сам он не успел побриться. Он очень любил праздник пророка Ильи, ибо все односельчане, прежде чем отправиться в церковь, брились в его, Андониса, парикмахерской, а потом, когда возвращались в село, кое-кто из пьяных валился на сырую землю, да так и засыпал, а назавтра торопился позвать Андониса, чтобы тот поставил банки и тем выбил из тела хворь. Это приносило ему самый большой доход. Правда, как мы уже знаем, он рвал также и зубы, но у подлецов односельчан зубы были здоровые, крепкие, они ломали твердый как камень миндаль, а изредка, коли и впрямь заболевал какой-нибудь зуб, крестьяне сами — и какие только черти им это посоветовали! — обвязывали его шпагатом, тянули — и зуб вылетал; потом выпивали большой стакан раки и, как прежде, дробили крепкий миндаль на закуску.
Трое наших друзей медленно шагали по дороге, спокойно разговаривали и понемногу отстали от всех, Сперва Яннакос и Михелис шли рядом с попом Григорисом. Один из них следил за своим осликом, на котором сидела Марьори, время от времени обращавшаяся к животному с нежными словами: пусть знает, что хозяин рядом и не скучает; а другому хотелось побыть со своей Марьори. Он смотрел на свою невесту с молчаливой страстью, втайне предвкушая будущее счастье, и любовался ее нежной застенчивостью и благородным видом, а та пристально рассматривала его породистое чистое лицо, черные кудрявые волосы и стройную фигуру. Так при ярком свете дня, в шумной толпе, поднимавшейся на гору, они забыли обо всем на свете и мысленно, словно это уже происходило сейчас, видели себя в объятиях друг друга.
Глаза Марьори мечтательно смотрели вперед, — перед ней вставала другая Марьори, та, что держала у своей груди ребенка и кормила его.
— Дорогой пророк Илья, — шептала она, смотря на суровую вершину горы, — я обращаюсь к твоей милости. Сделай так, чтобы я держала на руках сына!
За ними шел Костандис со своим семейством; впереди ехала на муле жена, а позади нее сидели двое сынишек. Следом молча шагал сам Костандис. О чем было им говорить — обо всем уже говорили тысячу раз, то в мирной беседе, то в ссорах. Жена часто еще вспыхивала, часто еще ссорилась, но он уже сложил оружие и вошел в царствие небесное, как он выражался, — в молчание.
Понемногу три друга, страстно желавшие оторваться от других и остаться вместе, позабыли о своих заботах и теперь спокойно шагали позади всех.
— Где Манольос? Разве он не с вами? — спросил Костандис. — Разве он не придет на праздник?
— Вчера после обеда я ходил к нему в кошару, но не застал его, — сказал Михелис. — Я позвал Никольоса. «Еще рано утром Манольос пошел в церковь пророка Ильи, — сказал он мне, — понес туда кувшин с маслом и охапку лавровых ветвей, но пока не вернулся. Он нездоров, и, вспомни мои слова, хозяин, наверно, скоро совсем с ума сойдет, он уже немного свихнулся. Я ему признался, что забрал у него Леньо, и он меня не убил. Сегодня читает, Поет псалмы, но завтра начнет кидаться камнями».