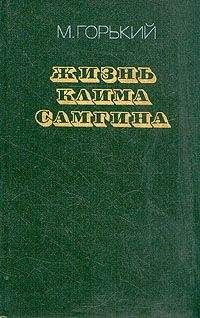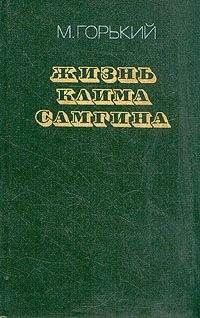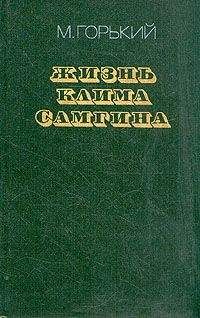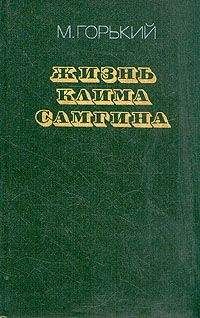Максим Горький - Жизнь Клима Самгина. "Прощальный" роман писателя в одном томе
Хотя она сказала это без жалобы, насмешливо, но Клим почувствовал себя тронутым. Захотелось говорить с нею простодушно, погладить ее руку.
— Расскажи что-нибудь, — попросила она. Он стал рассказывать о Туробоеве, думая:
«А что, если сказать ей о Нехаевой?» Послушав его ироническую речь не более минуты, Лидия сказала:
— Это неинтересно.
Но почти тотчас спросила небрежно:
— Он сильно болен?
— Не знаю, — удивленно ответил Клим. — Почему ты спрашиваешь? То есть почему ты думаешь?
— Я слышала, что у него — чахотка.
— Не заметно.
Замолчав, Лидия крепко вытерла платком губы, щеку, потом сказала, вздыхая:
— В школе у нас был товарищ Туробоева, совершенно невыносимый нахал, но исключительно талантливый. И — вдруг…
Нервно вздрогнув, она вскочила на ноги, подошла к дивану, окуталась шалью и, стоя там, заговорила возмущенным шопотом:
— Ты подумай, как это ужасно — в двадцать лет заболеть от женщины. Это — гнусно! Это уж —.подлость! Любовь и — это…
Она отодвинулась от Клима и почти упала в угол дивана.
— Ну, какая же любовь? — пробормотал Самгин. Лидия с гневом прервала его:
— Ах, оставь! Ты не понимаешь. Тут не должно быть болезней, болей, ничего грязного…
Раскачиваясь, согнув спину, она говорила сквозь зубы:
— И всё вообще, такой ужас! Ты не знаешь: отец, зимою, увлекался водевильной актрисой; толстенькая, красная, пошлая, как торговка. Я не очень хороша с Верой Петровной, мы не любим друг друга, но — господи! Как ей было тяжело! У нее глаза обезумели. Видел, как она поседела? До чего все это грубо и страшно. Люди топчут друг друга. Я хочу жить, Клим, но я не знаю — как?
Последние слова она произнесла настолько резко, что Клим оробел. А она требовала:
— Ну, скажи, — как жить?
— Полюби, — тихо ответил он. — Полюбишь, и все будет ясно.
— Ты это знаешь? Испытал? Нет. И — не будет ясно. Не будет. Я знаю, что нужно любить, но я уверена — это мне не удастся.
— Почему?
Лидия молчала прикусив губы, опираясь локтями о колена свои. Смуглое лицо ее потемнело от прилива крови, она ослепленно прикрыла глаза. Климу очень хотелось сказать ей что-то утешительное, но он не успел.
— Вот я была в театральной школе для того, чтоб не жить дома, и потому, что я не люблю никаких акушерских наук, микроскопов и все это, — заговорила Лидия раздумчиво, негромко. — У меня есть подруга с микроскопом, она верит в него, как старушка в причастие святых тайн. Но в микроскоп не видно ни бога, ни дьявола.
— Ведь их и в телескоп не видно, — несмело пошутил Клим и упрекнул себя за робость.
Лидия, подобрав ноги, села в угол дивана.
— Мне кажется, — решительно начал Клим, — я даже уверен, — что людям, которые дают волю воображению, живется легче. Еще Аристотель сказал, что вымысел правдоподобнее действительности.
— Нет, — твердо возразила Лидия. — Это не так.
— Но разве поэзия — не вымысел?
— Нет, — еще более резко сказала девушка. — Я не умею спорить, но я знаю — это не верно. Я — не вымысел.
И, дотронувшись рукою до локтя Клима, она попросила:
— Не говори, как Томилин, цитатами… Это настолько смутило Клима, что он, отодвинувшись от нее, пробормотал растерянно:
— Как хочешь…
Минуту, две оба молчали. Потом Лидия тихо напомнила:
— Уже поздно.
Раздеваясь у себя в комнате, Клим испытывал острое недовольство. Почему он оробел? Он уже не впервые замечал, что наедине с Лидией чувствует себя подавленным и что после каждой встречи это чувство возрастает.
«Я — не гимназист, влюбленный в нее, не Макаров, — соображал он. — Я хорошо вижу ее недостатки, а достоинства ее, в сущности, неясны мне, — уговаривал он себя. — О красоте она говорила глупо. И вообще она говорит надуманно… неестественно для девушки ее лет».
Пытаясь понять, что влечет его к этой девушке, он не ощущал в себе не только влюбленности, но даже физиологического любопытства, разбуженного деловитыми ласками Маргариты и жадностью Нехаевой. Но его все более неодолимо тянуло к Лидии, и в этом тяготении он смутно подозревал опасность для себя. Иногда казалось, что Лидия относится к нему с тем самомнением, которое было у него в детстве, когда все девочки, кроме Лидии, казались ему существами низшими, чем он. Вспоминая, что в тоненькой, гибкой его подруге всегда жило стремление командовать, Клим остановился на догадке, что теперь это стремление уродливо разрослось, отяжелело, именно его силою Лидия и подавляет. Оно — не в том, что говорит Лидия, оно прячется за словами и повелительно требует, чтоб Клим Самгин стал другим человеком, иначе думал, говорил, — требует какой-то необыкновенной откровенности. Она поучает:
«Ты говоришь слишком докторально и держишься с людями, как чиновник для особых поручений. Почему ты улыбаешься так натянуто?»
Все это возбуждало в Климе чувство протеста, сознание необходимости самообороны, и это сознание, напоминая о Макарове, диктовало:
«Не стану обращать внимания на нее, вот и все. Я ведь ничего не хочу от нее».
Он пробовал вести себя независимо, старался убедить Лидию, что относится к ней равнодушно, вертелся на глазах ее и очень хотел, чтоб она заметила его независимость. Она, заметив, небрежно спрашивала:
— На кого ты дуешься?
И затем неотразимо выпытывала:
— Почему тебе нравится «Наше сердце»? Это — неестественно; мужчине не должна нравиться такая книга.
Не всегда легко было отвечать на ее вопросы. Клим чувствовал, что за ними скрыто желание поймать его на противоречиях и еще что-то, тоже спрятанное в глубине темных зрачков, в цепком изучающем взгляде.
Однажды он, не стерпев, сердито сказал:
— Ты экзаменуешь меня, как мальчишку. Лидия удивленно спросила:
— Разве?
И, взглянув в его глаза с непонятной улыбкой, сказала довольно мягко:
— Нет, тебя и юношей не назовешь, ты такой… Поискав слово, она нашла очень неопределенное:
— Особенный.
И, по обыкновению, начала допрашивать:
— Что ты находишь в Роденбахе? Это — пена плохого мыла, на мой взгляд.
Как-то вечером, когда в окна буйно хлестал весенний ливень, комната Клима вспыхивала голубым огнем и стекла окон, вздрагивая от ударов грома, ныли, звенели, Клим, настроенный лирически, поцеловал руку девушки. Она отнеслась к этому жесту спокойно, как будто и не ощутила его, но, когда Клим попробовал поцеловать еще раз, она тихонько отняла руку свою.
— Ты не веришь мне, а я… — начал Клим, но она прервала его речь.
— Меньше всего ты похож на кавалера де-Грие. Я тоже не Манон.
Через минуту она, вздрогнув, сказала:
— Я думаю, что наиболее отвратительно любят женщин актеры.
Клим обеспокоенно спросил:
— Почему же именно актеры? Не ответила.
Такие мысли являлись у нее неожиданно, вне связи с предыдущим, и Клим всегда чувствовал в них нечто подозрительное, намекающее. Не считает ли она актером его? Он уже догадывался, что Лидия, о чем бы она ни говорила, думает о любви, как Макаров о судьбе женщин, Кутузов о социализме, как Нехаева будто бы думала о смерти, до поры, пока ей не удалось вынудить любовь. Клим Самгин все более не любил и боялся людей, одержимых одной идеей, они все насильники, все заражены стремлением порабощать.
Нередко ему казалось, что Лидия, играет с ним, это углубляло его неприязнь к ней, усиливало и робость его. Но он с удивлением отмечал, что и это не отталкивает его от девушки.
Всего хуже он чувствовал себя, когда она внезапно, среди беседы, погружалась в странное оцепенение. Крепко сжав губы, широко открыв глаза, она смотрела в упор и как бы сквозь него; на смуглом лице являлась тень неведомых дум. В такую минуту она казалась вдруг постаревшей, проницательной и опасно мудрой. Клим опускал голову, не вынося ее взгляда, ожидая, что сейчас она выдумает что-то необыкновенное, ненормальное и потребует, чтоб он исполнил эту ее выдумку. Он боялся, что не сумеет отказать ей. И только один раз нашел в себе достаточно смелости спросить:
— Что с тобой?
— Ничего, — ответила она обычаям для всех пустым словом.
Но затем, насильно осветив лицо свое медленной улыбкой, сказала:
— Молчун схватил. Павла, — помнишь? — горничная, которая обокрала нас и бесследно исчезла? Она рассказывала мне, что есть такое существо — Молчун. Я понимаю — я почти вижу его — облаком, туманом. Он обнимет, проникнет в человека и опустошит его. Это — холодок такой. В нем исчезает всё, все мысли, слова, память, разум — всё! Остается в человеке только одно — страх перед собою. Ты понимаешь?