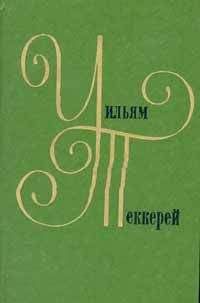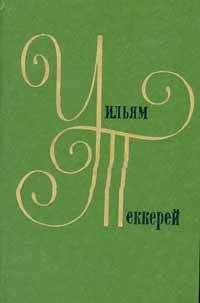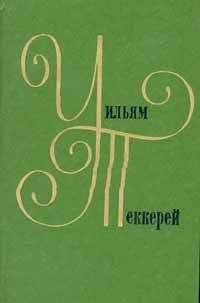Уильям Теккерей - Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром (книга 1)
— Вы скоро начнете смеяться над Шекспиром, — говорил он. Когда же его юные гости сообщили ему, что доктор Гольдсмит тоже над ним смеялся, доктор Джонсон не понимал его, а Конгрив при жизни и позднее считался во многом выше Шекспира, он не нашелся, что возразить, хотя в душе согласиться с этим не мог.
— Чего, по-вашему, стоят суждения человека, сэр, — восклицает мистер Уорингтон, — который превыше всех творений Шекспира ставил такие строки Конгрива о церкви:
Сколь благолепен сей фасад высокий,
Что мраморной украшен колоннадой,
Вздымающей тяжелой кровля бремя,
Недвижной, прочной, вечной. То она
Священный трепет на меня наводит
И устрашает мой печальный взор… и так далее.
Смутная боязнь за сына, страх, что он водится с еретиками и безбожниками, овладели нашим полковником, а вслед за тем пришло свойственное его кроткой натуре добровольное самоуничижение. Наверно, прав не он, а эти молодые люди — кто он такой, чтобы спорить с литераторами, учившимися в колледжах? — и Клайву лучше следовать за ними, чем за отцом, который учился недолго, да и то кое-как, и лишен тех природных дарований, коими отличаются блестящие друзья его сына. Мы так подробно рассказываем об этих беседах и мелких огорчениях, выпадавших на долю одного из лучших людей, не потому, что они особенно примечательны, а потому что им суждено было оказать весьма чувствительное влияние на всю дальнейшую жизнь полковника и его сына.
Равно терялся бедный полковник и перед художниками. Они ниспровергали то одного академика, то другого; смеялись над мистером Хейдоном, глумились над мистером Истлейком, или, наоборот, — превозносили мистера Тернера на одном конце стола, а на другом объявляли его безумцем. Не разумел Ньюком и их жаргона. Но был же какой-то смысл в их болтовне — ведь Клайв пылко вмешивался в нее и поддерживал ту или иную сторону: Чем однако, вызывала такой восторг желто-бурая картина, которую они назвали "Тицианом"; что восхищала их в трех пышнотелых нимфах кисти Рубенса, — все это было полковнику невдомек. Или вот хваленая античность… Элджинский мрамор… Может, и впрямь этот разбитый торс — чудо, а безносая женская голова — воплощение красоты? Он всячески старался поверить в это, потихоньку ходил в Национальную галерею, где штудировал все по каталогу, часами простаивая в музее перед античными статуями, тщетно силясь понять их величие, но испытывал только замешательство, как, помнится, в детстве перед основами греческой грамматики, когда проливал слезы над о kai e alethfs kai to alethes [56]. A между тем, у Клайва при виде этих шедевров глаза загорались восхищением и от восторга пылали щеки. Казалось, он упивался красками точно вином. Стоя пред изваяниями, он чертил в воздухе пальцем, повторяя их гармоничные линии, и издавал возгласы радостного изумления.
— Отчего я не могу любить то же, что он? — спрашивал себя Ньюком. — Отчего не вижу красоты там, где он приходит в восторг? Неужто мне не понять того, что, как видно, открыто ему, даром что он так молод?!
Словом, стоило ему вспомнить, какие себялюбивые и суетные планы строил он относительно сына, живя в Индии, как ждал той счастливой поры, когда Клайв всегда будет рядом и они станут вместе читать, думать, работать, играть, развлекаться, — и сердце его сжималось от мучительного сознания того, сколь непохожа оказалась реальность на эти радужные мечты. Да, они вместе, и все же он по-прежнему одинок. Мальчик не живет его мыслями и в обмен на его любовь отдает лишь частицу своего сердца. Точно так же, наверно, страдают многие влюбленные. Ведь иные мужчины и женщины в ответ на поклонение и фимиам выказывают не больше чувства, чем можно ожидать от какого-нибудь истукана. Есть в соборе святого Петра статуя, кончик ноги которой весь стерся от поцелуев, а она все сидит и будет сидеть вечно — холодная и бесчувственная. Чем взрослей становился юноша, тем больше казалось отцу, что каждый день отдаляет их друг от друга. И он делался все печальней и молчаливей, а его штатский друг, подметив такое уныние, толковал его на свой шутливый лад. То он объявлял в клубе, что Том Ньюком влюблен; то склонялся к мысли, что Том страдает не сердцем, а печенью, и советовал ему принимать слабительные пилюли. Добрый наш глупец! Кто ты такой, чтобы читать в сердце сына? Не для того ли у птицы крылья и оперенье, чтобы летать? Тот самый инстинкт, что велит тебе любить свое гнездо, побуждает молодых птенцов искать себе подругу и новое место для гнездовья. Сколько бы Томас Ньюком ни проводил времени в изучении стихов и картин, ему не увидеть их было глазами Клайва! Сколько бы он ни сидел в молчании над стаканом дина, дожидаясь возвращения юноши (у которого был свой ключ), а потом потихоньку, в одних чулках крался к себе в спальню; как бы ни одаривал его, ни обожал в душе, какие б ни лелеял мечты, ни возносил молитвы — все равно он не мог бы надеяться быть всегда первым в сердце сына.
Однажды, зайдя в кабинет Клайва, где тот сидел до того поглощенный каким-то делом, что не слышал шагов отца, Томас Ньюком застал его с карандашом в руках над листом бумаги, котррую юноша при виде вошедшего, покраснев, сунул в боковой карман. Отец был совсем потрясен и убит этим.
— Как мне грустно, что у тебя от меня секреты, Клайв", — наконец вымолвил он.
Лицо юноши озарилось лукавой улыбкой.
— Вот, папа, смотрите, если вам интересно, — сказал он и вытащил листок — то были цветистые вирши, посвященные некой юной особе, которая (не знаю, какой по счету) воцарилась сейчас в сердце Клайва. А вас, сударыня, очень прошу не спешить с осуждением и поверить, что ни мистер Клайв, ни его биограф не имели в виду ничего худого. Ведь, наверно, и у вас до свадьбы разок-другой загоралось сердечко, и тот капитан, викарий или танцевавший с вами представительный молодой иностранец заставляли его трепетать еще прежде, чем вы подарили это сокровище мистеру Честенсу. Клайв не делал ничего такого, чего не сделает и ваш собственный сын, когда ему исполнится восемнадцать или девятнадцать лет, — если только он пылкий юноша и достойный отпрыск столь очаровательной дамы.
Глава XXII,
описывающая поездку в Париж, а также события в Лондоне, счастливые и несчастные
Мистер Клайв, как говорилось, стал теперь заводить собственные знакомства, и количество визитных карточек, украшавших каминную полку его кабинета, вызывало благоговейное изумление его бывшего однокашника по студии Гэндиша, юного Мосса, всякий раз, как того допускали в это святилище.
— "Леди Бэри Роу принимает по…" — читал вслух молодой иудей. — "Леди Ботон дает бал…" Ишь ты! Ей-богу, ты становишься светским львом, Ньюкоб! Это тебе не то что вечера у старого Левисона, где обучали танцевать польку и нам приходилось выкладывать шиллинг за стакан негуса.
— Нам, говоришь?.. Ты же никогда не платил, Мосс! — со смехом восклицает Клайв; и в самом деле, весь негус, поглощенный мистером Моссом, не стоил бережливому юноше ни пенса.
— Ну, ладно, ладно… И шибпанского, должно быть, пьешь на этих шикарных приемах, сколько влезет, — продолжает Мосс. — "Леди Киклбери принимает… Небольшая вечеринка…" Ну, скажу я тебе, вся знать — твои друзья! Послушай, если кому-нибудь из этих щегольков понадобится кусок настоящих кружев по сходной цене, или бриллианты, замолви за нас словечко, и ты окажешь нам добрую услугу, сам понимаешь.
— Дай мне несколько ваших карточек, — предлагает Клайв, — и я раздам их на балах; Только смотри, обслуживай моих друзей получше, чем меня: сигары ты мне прислал ужасные, Мосс! Конюх, и тот не стал бы их курить!
— Этот Ньюкоб так важничает! — говорит мистер Мосс одному своему старому приятелю, тоже однокашнику Клайва. — Я видел, как он катался верхом в Парке с графом Кью, капитаном Белсайзом и всей прочей шатией — я-то их всех знаю! — так он едва кивнул мне. В следующее воскресенье я тоже буду на лошади, тогда посмотрим, узнает он меня или нет. Барские штучки! Корчит из себя графа, а я знаю, что одна его тетка сдает комнаты в Брайтоне, а дядюшка скоро будет проповедовать в тюрьме Королевской Скамьи, если только не станет поосмотрительней.
— Ничего он из себя не корчит, — с возмущением отвечает собеседник Мосса. — Ему безразлично, богат человек или беден, и он так же охотно ходит ко мне, как и к какому-нибудь герцогу. Он всегда готов помочь другу. И рисует прекрасно. У него только вид такой гордый, а на самом деле он добрейший на свете малый.
— Во всяком случае, к нам он уже полтора с лишним года не ходит, — возражает мистер Мосс.
— А все потому, что стоит ему прийти, как ты непременно навязываешь ему какую-нибудь сделку, — не сдается Хикс, собеседник мистера Мосса. — Он говорит, что ему не по карману с тобой водиться: ты не выпустишь его из дому, не всучив булавку для галстука, коробку с одеколоном или пачку сигар. Да и что у него общего с тобой, променявшим искусство на лавку, позволь спросить?