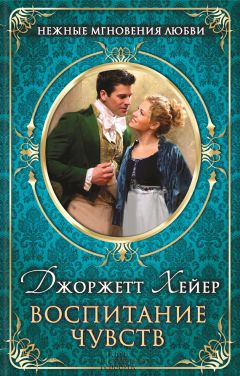Гюстав Флобер - Первое «Воспитание чувств»
Понятое как интимнейшая суть нашей души, как безраздельное царство нравственной стихии, фантастическое занимает законное место в Искусстве, к нему прибегали даже самые закоренелые скептики, высмеивающие все на свете, а для кого-то из нас неспособность ни понять этот род творчества, ни преуспеть в нем обернулась слабостью, может статься, единственной, но пагубной. Что до плодов, порожденных нарочитой решимостью художника прибегнуть к фантазии за неумением выразить мысль в реальной, свойственной человеку форме, они в основном свидетельствуют о малом размахе ума и о большей бедности воображения, чем принято полагать; действительно, фантазия не питается химерами, у нее, как и у вас, есть своя положительная основа, она изводит себя и постоянно возобновляет прерванный труд, чтобы породить нечто с ней связанное, придать этому реальное воплощение, осязаемое, отнюдь не мимолетное, весомое, не поддающееся порче.
И Жюль проникся любовью к тем нескольким величайшим из великих, сильнейшим из сильных, у кого бесконечное отражается в творениях, как небеса в морской глади; но создания этих одиночек, чем больше он осмысливал их, тем выше вздымались в его уме, будто горы по мере восхождения по склону: чем лучше, как ему казалось, он их понимал, тем сильнее они его подавляли и ослепляли — не хотелось верить, что смертный может быть так велик.
Знали ли они себе цену, известно ли было им, бессмертным, о коих речь, что они сумели сотворить? Жизненные случайности не имели над ними власти — это прежде всего. Они создавали любовные гимны под сводами темниц, слагали стихи, идя на смерть, продолжали петь уже в агонии, нищета не обедняла их, неволя не порабощала, а ведь они могли рассказать о своих болях миру и развлечь его зрелищем собственного сердца. Но нет, они исполняли свой долг с божественным упорством и сами потом вовсе не гордились этим, извлекая оттуда так мало пищи для тщеславия, что подчас кажется: они не понимали, сколь обширен их труд, походя в этом на зажженные факелы, не ведающие, что освещают путь. Жюля восхищало, сколь много глубины было в такой душевной простоте и как общие свойства мира проявлялись в их способе осуществлять себя, ибо они добивались истины, годной всем, и одновременно следовали самым общим законам творения, когда рука творца заметна, но не убавляет ни реальности, ни целостности сотворенного.
Гомер и Шекспир включили в круг изображаемого и человечество, и природу; всякий, рожденный в древнем мире, как нам кажется, вышел из гомеровского эпоса, а укорененный в мире новом — персонаж одной из шекспировских драм: воистину невозможно помыслить античность без первого, а современность без второго. Именно их подлинность сделала все, сотворенное ими, столь необходимым для нас, хотя в равной мере оно принадлежит и самому Богу, они — это своего рода сознание человечества, ибо все его элементы собраны у них и там их можно почерпнуть.
Но что особо восхищало Жюля у отцов-основателей искусства, так это объединение страсти и расчета; самые исключительные, наиболее индивидуальные поэты по части теплоты, жизненности, даже простодушия не могли превзойти этих двоих, притом и в случаях, когда всецело сосредоточивали свои помыслы на том главном чувстве, изображение коего снискало им славу; между тем у Гомера и Шекспира отображено во всем великолепии множество чувств, тогда как в литературах более поздних со всеми их новоприобретенными хитростями и расчисленными уловками не встретишь ничего, что бы близко подходило к мудро устроенной гармонии, царящей в творениях этих величайших мастеров, притом в ее наиболее естественном и полном состоянии первозданного источника. Отсюда он сделал вывод, что вдохновение должно проистекать из самого себя, ибо внешние раздражители слишком часто ослабляют его или меняют его направление; так, желательно поститься, чтобы воспеть бутылку, и не испытывать ни грана ярости, живописуя Аяксовы приступы гнева[90] (тут он, кстати, вспомнил о временах, когда сам стегал себя по бокам, желая придать себе больше любовной истовости и написать хороший сонет).
Так вот, высшая поэзия, не имеющее границ понимание бытия, отсвет природы на всяком лице и страсти в каждом крике, бесчисленные пропасти сердца человеческого — все объединяется в обширнейшем синтезе, к любой составляющей коего Жюль относился почтительно из любви к целому, не желая упустить ни слезинки плачущего, ни листика в лесной чаще.
Он понял: любое посягательство отделить значительное от второстепенного обуживает произведение, сделать выбор — то же самое, что предать забвению, эпические поэмы не поэтичнее истории, а, к примеру, главным пороком исторического романа является то, что он желает быть таковым: всякий, кто, руководствуясь заранее обдуманной идеей, намеревается всего лишь ее куда-нибудь респектабельным образом приткнуть, осмысляет прошлое в иных тонах, нежели те, что были ему присущи, переиначивает события и подправляет людей: произведение получается безжизненное и лживое, а история — история остается там, где и была, подавляя автора величием своих пропорций, полнотою собственного замысла; единственное средство сравниться с ней — дорасти до ее требований и досказать то, о чем она умолчала. Но какими познаниями в науках неплохо бы располагать, чтобы стать наравне с эпохой и постигнуть ее, какая первоначальная эрудиция потребна для такого понимания, какою проницательностью должно обладать, чтобы эрудиция принесла пользу, что за ум нужен, чтобы увидеть все таким, каково оно на самом деле, какая врожденная сила подвигает смертного все это воспроизвести и, прежде всего, какой вкус надобен, чтобы заставить себя услышать!
Так Жюль обогащал себя потерею всех иллюзий, не выдерживающих открытия новых горизонтов и упразднения старых барьеров. Равно удаляясь и от ученого, ограничившего себя наблюдением за явлениями жизни, и от ритора, думающего только о том, как бы их приукрасить, он проникался сутью вещей и познавал истоки страстей человеческих, выстраивавшихся по параболам, вычерчиваемым с точностью почти математической. Если говорить о его собственных страстях, он, надобно сознаться, сводил их к формулам, чтобы рассмотреть пояснее; зато мысли приходили к нему прямо из сердца, столько в них было теплоты и дерзости.
Он привнес в занятия искусством навыки, усвоенные им при изучении мира, а взявшись исследовать самого себя, стал невольно пародировать именно то, что раньше ему больше всего нравилось, принижать любимейшее, попирая всякое величие и отрицая любые красоты, чтобы посмотреть, смогут ли они после этого вновь подняться в его глазах; иногда он подвергал полнейшему отрицанию какое-нибудь произведение, только чтобы взглянуть на него под другим углом зрения. Но подобно тому, как бархат даже в лохмотьях красивее самоновейшей парусины, а бумажный колпак на голове Аполлона его не портит, — пародия не в силах разрушить нетленное, ее лезвие обламывается о бессмертный мрамор, она скорее украшает прекрасное сравнением с уродливым; Жюль вновь убедился: слава, чтобы достигнуть полноты, должна вынести все гонения, да и, право же, мне сдается, что триумф будет выглядеть весьма посредственно без непременных охальников. Не та ли самая потребность побуждает нас выискивать обличительные речи против своих же кумиров и карикатуры на тех, кем мы восхищаемся, с не меньшим удовольствием ловя злоречие по собственному адресу, чтобы тотчас перекрыть его славословиями в нашу честь?
Жюль счел достойными жалости людей слабых, жаждущих внушать восхищение и приходящих в ужас от иронии: восхищение не способно черпать силу в себе самом, ежели такой пустяк может его умалить.
Ему часто доводилось слышать, что нынешний век прозаичен и произведения, призванные его описывать, не могут черпать в нем вдохновение, не находя там ни глубин, ни блеска; и вот, в ранней юности усвоив по этому поводу мнение, что было у всех на устах, и отнесясь к современности с пренебрежением, он в пору своего увлечения античностью, возврата к пластическому в искусстве, презрев черный фрак из-за несходства с тогой и лаковые сапожки ввиду их непохожести на котурны, все-таки однажды спросил себя: неужели полвека, в которые уместились революция, изменившая мир, и герой, умудрившийся его завоевать,[91] где все наблюдали падение монархий, рождение народов, конец вероучений, начало новых догм, покойников, возвращенных из изгнания, королей, отправляющихся в ссылку,[92] и везде — нечто вроде порывов бури, настолько ускоряющих течение событий, что их следствия чуть ли не обгоняют причину, идеи сшибаются с явлениями, философские воззрения с религиями, и все это клубится в вихре, сбившись в плотный ком, смешавшись и перепутавшись так, что каждой теории был дарован свой звездный час, все представления о мире успевали мимолетно приобрести форму, вера и сомнение, пьянящий энтузиазм и подавленность, испорченность и добродетель, героизм и предательство поочередно представали перед нами и друг другом, иногда неразрывно связанные одним и тем же событием, у одного народа, а подчас и в одном человеке, — ничто иное не явило бы столько разнообразия в единстве; и вот Жюль вопросил себя: неужели подобная эпоха не предоставила больше пищи для самосовершенствования мыслителю и свободы художнику, чем созерцание не столь изменчивых общественных установлений, где нет движения ни назад, ни вперед, основания прочны, на все свои правила, где человек почти уже не может действовать, повинуясь собственной воле, да и Провидение не понуждает его поступать так или иначе. Но в искусстве из-за подобного сверхизобилия материи изображения воцаряется замешательство: мастер не ведает, что делать со своим творением, ни даже как его осмыслить; чтобы уловить направление и предпринять некие действия, нужно отыскать местечко, где бы не было такого коловращения; история прекрасна только в пересказе, блистательнейшие замки не стоят столько, столько их руины. В своей любви к прекрасному художник может иногда пожалеть о сбитых фронтисписах и обо всех покореженных статуях, но если бы, радея о чистоте собственной мысли, он мог представить, сколь близка природа прошлого представлениям о бесконечном (и, право, чем глубже перспектива, тем прекраснее полотно), то поддался бы искушению благословить ветры, сбрасывающие каменья, и мох, спешащий укрыть их от взгляда.