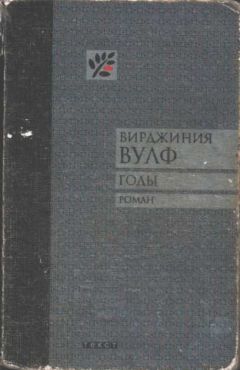Вирджиния Вулф - Годы
Гул Лондона все еще казался ему оглушительным, а скорость, с которой люди ездили, устрашающей, но здесь было интереснее, чем в Африке. Даже магазины, думал он, проносясь мимо стеклянных витрин, даже магазины изумительны. А вдоль края тротуара выстроились тележки с цветами и фруктами. Везде — изобилие, избыток… Опять зажегся красный свет, Норт притормозил.
Он огляделся. Он был где-то на Оксфорд-стрит. По тротуарам двигалось множество людей; толкая друг друга, они роились вокруг витрин, которые все еще были освещены. Яркость, красочность, разнообразие казались после Африки удивительными. За все эти годы, думал Норт, глядя на развевающееся полотнище из прозрачного шелка, он привык к необработанному сырью — к шкурам и шерсти, а здесь он видел законченные изделия. Его взгляд привлек дорожный несессер из желтой кожи, наполненный серебряными бутылочками. Но светофор вновь зажег зеленый свет. Норт поехал дальше.
Он вернулся всего десять дней назад, и у него в голове царила полная неразбериха. Ему казалось, что он без перерыва разговаривает, жмет руки, здоровается. Люди появлялись отовсюду: его отец, сестра, какие-то старики вставали с кресел и спрашивали: «Вы меня не помните?» Те, кого он оставил несмышлеными мальчишками, стали студентами, девочки с косичками — замужними женщинами. Все это еще приводило его в растерянность. Они все так быстро говорят; наверное, они считают меня тупым, думал он. Ему приходилось отступать к окну и говорить себе: «Что, что, что они хотят сказать?»
Например, этим вечером у Элинор был какой-то человек с иностранным акцентом, который выдавил себе в чай лимон. Кто бы это мог быть? — заинтересовался Норт. «Один из дантистов Нелл», — сказала его сестра Пегги, наморщив губку. Им все всегда было ясно, на все имелись готовые фразы. Нет, то был молчун, сидевший на диване, а Норт имел в виду другого, который выдавил в чай лимон. «Мы называем его Браун», — буркнула Пегги. Почему Браун, если он иностранец? — удивился Норт. Так или иначе, они все романтизировали одиночество и дикость — «Я бы хотел оказаться на вашем месте», — сказал коротышка по фамилии Пикерсгилл, — кроме этого Брауна, который заметил что-то заинтересовавшее Норта. «Если мы не знаем самих себя, как мы можем знать других людей?» — вот что он сказал. Они обсуждали диктаторов, Наполеона, психологию великих личностей. Опять зажегся зеленый с надписью «Проезжайте». Норт вновь бросил машину вперед. А потом дама с серьгами разглагольствовала о красотах Природы. Норт прочел название улицы слева. Он должен был ужинать у Сары, но не очень представлял себе, как добраться до места. Он только услышал, как ее голос в телефонной трубке сказал: «Приходи ко мне ужинать — Милтон-стрит[59], пятьдесят два, на двери моя фамилия». Это где-то рядом с Тюремной крепостью[60]. А что касается этого Брауна — трудно было сразу отнести его к какой-то категории людей. Он говорил, растопыривая пальцы, многословно, как человек, который со временем станет занудой. А Элинор бродила по квартире с чашкой в руках, рассказывая всем о своем новом душе. Норту хотелось, чтобы они тверже держались темы. Ему было интересно беседовать. Серьезно обсуждать абстрактные вопросы. «Чем хорошо одиночество; чем плохо общество?» Вот что было интересно; однако они все время перескакивали с одного на другое. Когда крупный мужчина сказал: «Одиночное заключение — самая мучительная пытка в нашем арсенале наказаний», тощая старуха с редкими растрепанными волосами сразу вскрикнула, приложив руку к сердцу: «Его надо отменить!» Как видно, ей случалось бывать в тюрьмах.
— Черт, куда я забрался? — спросил Норт сам себя, вглядываясь в название улицы на угловом доме. Кто-то нарисовал мелом на стене круг с ломаной линией внутри[61]. Норт посмотрел вдаль. Дверь за дверью, окно за окном повторяли один и тот же образец. Все было озарено красновато-желтым сиянием, потому что солнце садилось в лондонскую мглу. Город окутывала теплая золотая дымка… Тележки, полные фруктов и цветов, стояли в ряд вдоль края тротуара. Солнце вызолотило плоды; цветы — розы, гвоздики, лилии — лучились жухловатым великолепием. Он думал было остановиться и купить букет для Салли, но сзади гудели машины. Он поехал дальше. Букет, зажатый в руке, думал он, смягчит неловкость встречи и обмен обычными фразами. «Как приятно тебя видеть… Ты пополнел», — и так далее. Он ведь только слышал ее голос по телефону, а люди за столько лет меняются. Он точно не знал, та это улица или нет, и медленно свернул за угол. Остановился. Проехал еще немного. Это была Милтон-стрит, сумрачная улица со старыми домами, в которых теперь сдавались квартиры; но они видали и лучшие времена.
«Нечетные на той стороне, четные на этой», — пробормотал Норт. Улица была запружена фургонами. Он посигналил. Остановился. Посигналил опять. Мужчина подошел к голове лошади, запряженной в телегу с углем, и животное неторопливо побрело вперед. Дом номер пятьдесят два был чуть дальше. Норт медленно подкатил к двери и остановил машину.
С той стороны улицы донесся голос женщины, певшей гаммы.
— Какая грязная, — произнес Норт, еще сидя в машине (улицу перешла женщина с кувшином под мышкой), — гадкая, не подходящая для житья улица.
Он заглушил мотор, вышел и стал читать фамилии на двери. Они были написаны одна над другой — некоторые на визитных карточках, иные на медных табличках: Фостер, Эбрахамсон, Робертс; «С. Парджитер» было выбито на алюминиевой полоске, на самом верху. Норт позвонил в один из множества звонков. Никто не появился. Женщина продолжала петь гаммы, медленно повышая голос. Настроение приходит и уходит, думал Норт. Иногда он писал стихи; и сейчас, пока он ожидал, к нему опять пришло поэтическое настроение. Он сильно нажал кнопку звонка два или три раза. Но никто не вышел. Тогда он толкнул дверь, она оказалась не заперта. Внутри стоял непривычный запах вареных овощей; засаленные бурые обои создавали сумрак. Норт поднялся по лестнице дома, который, вероятно, некогда служил жильем какому-то благородному господину. Балясины были резные, однако замазанные каким-то дешевым желтым лаком. Норт медленно добрался до лестничной площадки и остановился, не зная, в какую дверь постучать. В последнее время он то и дело оказывался перед дверьми незнакомых домов. У него было ощущение, что он — непонятно кто и непонятно где. С той стороны улицы продолжал звучать голос, натужно карабкавшийся вверх по гаммам, точно по лестнице; наконец женщина умолкла — лениво и вяло, как будто донеся до вершины звук своего голоса и бросил его там. Затем Норт услышал из-за двери смех.
Это ее голос, подумал он. Но она там не одна. Ему стало неприятно. Он рассчитывал застать ее одну. Голос что-то говорил и не ответил, когда Норт постучал. Он очень осторожно открыл дверь и вошел.
— Да, да, да, — говорила Сара.
Она стояла на коленях и разговаривала по телефону, но никого, кроме нее, в квартире не было. Увидев Норта, она подняла руку и улыбнулась ему, но руку не опустила, как будто шум, издаваемый им, не позволял ей чего-то расслышать.
— Что? — спросила она в трубку. — Что?
Норт стоял молча, глядя на силуэты своих бабушки и дедушки на каминной полке. Он заметил отсутствие цветов. Надо было принести. Он прислушался к тому, что говорила Сара, стараясь понять смысл.
— Да, теперь слышу… Да, ты прав. Ко мне пришли… Кто? Норт. Мой родственник из Африки…
Это про меня, подумал Норт. «Родственник из Африки». Это мой ярлычок.
— Вы знакомы? — спросила Сара и помолчала. — Ты так считаешь? — Она обернулась и посмотрела на Норта.
Они обсуждают меня, подумал он. Ему стало неуютно.
— До свидания, — сказала Сара и положила трубку. — Он говорит, что сегодня видел тебя. — Она подошла и взяла Норта за руку. — И ты ему понравился, — добавила она с улыбкой.
— Кто это? — спросил Норт, чувствуя неловкость. Надо было принести ей цветы.
— Человек, с которым ты познакомился у Элинор.
— Иностранец?
— Да. Мы называем его «Браун». — Она подвинула Норту стул.
Он сел на этот стул, а она устроилась напротив по-турецки. Он вспомнил ее манеру вести себя. Ее образ возвращался к нему по частям: сперва голос, затем манера, хотя что-то еще оставалось незнакомым.
— Ты не изменилась, — сказал он. Невзрачные лица слабо меняются, а вот красивые дурнеют. Она выглядела ни молодой, ни старой; только какой-то потрепанной; и комната была не прибрана; в углу стоял горшок с пампасной травой. Обычная комната в доходном доме, убранная второпях, подумал он.
— А ты… — начала она, глядя на него. Казалось, она старается совместить две различных его версии: одну — телефонную и вторую — сидевшую на стуле. Или была еще какая-нибудь? Это полузнание людей, полузнание ими тебя и ощущение взгляда на своем теле, точно ползающей мухи — как это все неприятно, думал он; но неизбежно — после стольких лет. Столы были завалены всякой всячиной, и Норт не знал, куда положить шляпу. Сара улыбалась, глядя, как он сидит и неуверенно держит шляпу в руке.