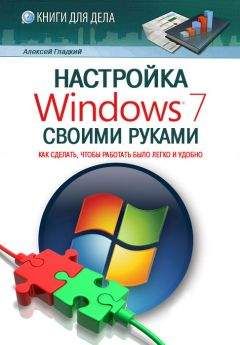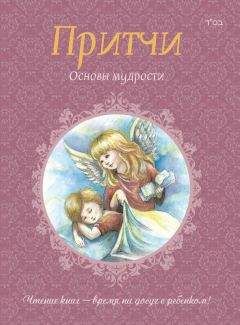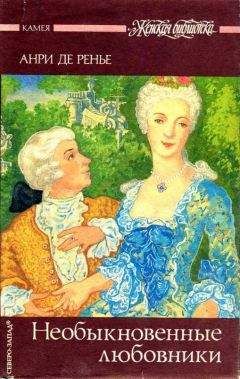Анри Ренье - Дважды любимая
При виде этих безобразных и вонючих животных кардинал Лампарелли не мог удержаться от смеха. Его желтоватое лицо расцвело, он искал и делал знаки, что хочет говорить. Он смотрел, хлопая в ладоши, на высокого лакея с салфеткою, потом слабым, прерывистым и шепелявым голосом в конце концов произнес:
— Ах, Джорджио, каков этот черт Анджиолино! Только он и способен… только он…
Новый приступ смеха прервал его, потом он произнес наконец более отчетливо и гораздо яснее, чем говорил вначале:
— Ах, этот Анджиолино, где достал он такое чудо?
Он остановился, кашлянул. Его лицо словно просветлело. Теперь он глотал слюну, вместо того чтобы распускать ее, а в глазах его выражалось особое лукавство. То был один из временных проблесков, возвращавших ему наполовину рассудок, после которых он тотчас же и быстро впадал в свое обычное одряхление. Он продолжал:
— Ведь это Анджиолино уже доставил мне Палиццио, подумай только, обезьяну, изображающую этого проклятого Палиццио, который голосовал за Онорелли; обезьяну, достаточно безобразную, чтобы изображать Палиццио, болвана Палиццио! Взгляни-ка на него! Видишь ли ты, как он ссорится с Франкавиллою?
Палиццио был довольно безобразный макака, нечистоплотный и бесстыжий в своем красном платье. Он стоял против Франкавиллы в угрожающей позе, скрежеща зубами. Франкавилла же был из породы павианов, жалкий и трусливый. Его длинный хвост виднелся из-под платья. Вдруг Палиццио набросился на этот хвост. Оба животные покатились друг на друга с криками ярости в свирепой схватке. Палиццио высвободился довольно быстро, и, пока Франкавилла убегал с плачем, он остался на поле битвы, сидя на задних ногах, во всем своем безобразии, еще воинственном, но уже удовлетворенном.
Франкавилла дважды обошел вокруг клетки с оскорбленным видом, потом вдруг он заметил белую обезьяну, которая печально кашляла, подошел, ущипнул ее и стал ждать. Больное животное оглянулось кругом, словно умоляя о помощи своих пасомых, потом оно покорилось, кашлянуло еще раз и начало взбираться по перекладинам решетки. Оно взбиралось мучительно, то поднимаясь, то снова падая, делая новые усилия и останавливаясь от боли и одышки. Его платье, приподнявшись, открывало редкую шерсть на его иссохших бедрах. Штанов на нем не было. Два золотых ключа слабо позвякивали.
Лампарелли был охвачен новым припадком смеха.
— Ты видишь, ты видел! — кричал он, теребя высокого лакея за рукав. — Говори! Отвечай! Разве он не похож на Онорелли? Посмотри, особенно когда он чешется… Он болен, сильно болен. Он скоро умрет! Ха-ха-ха…
С минуту он помолчал. Слюна побежала из угла его рта, потом, когда ему отерли губы, он обернулся к г-ну де Галандо, стоявшему рядом со своим ящиком, с которого он снял и тщательно сложил вчетверо зеленую саржу.
— Теперь надо будет одеть этих молодцов… Ты заставишь прийти сюда Коццоли и снять с них мерку, — знаешь Коццоли, который живет в улице Бабуино?.. Ты непременно отыщешь мне Коццоли… Ты скажешь также Анджиолино, что все благополучно, — продолжал он, понизив голос и конфиденциальным тоном, — белый скоро умрет, и они выберут меня; они не могут поступить иначе, как выбрать меня. Теперь не то, что в прошлый раз, знаешь, когда они избрали Онорелли. Нет, нет… Взгляни на них, я всех их держу в клетке, все они тут, начиная с Палиццио и кончая Франкавиллой, все, все, и дурак этот Тарталиа, и сумасшедший Барбиволио, и Ботта, и Бенарива, и Понтесанто, и оба Тербано, и толстый, и маленький, и Оролио, с вонью из носу, и остальные, и три из Испании, и поляк, и я не забыл Тартелли, иезуита; нет, все, все, и необходимо, чтобы они меня избрали, когда им надоест сидеть здесь и когда они насытятся пустыми орехами и прогорклым миндалем и устанут почесывать зад. Ты можешь передать Анджиолино, что я держу их всех.
Он остановился на минуту и остался с открытым ртом, не в состоянии придумать продолжения своей речи.
— А как поживает добрый Анджиолино, — спросил он внезапно, — мой любимец Анджиолино? Хорошо ли ты ему служишь? По крайней мере, верный ли ты слуга, всегда налицо, когда он тебя зовет? Ты его не оставляешь одного, по крайней мере? Слышишь, Джорджио? Он не похож на тебя, допустившего, чтобы я упал прямо носом в землю.
И Лампарелли принялся тихо плакать. Высокий лакей поднял плечи, дотронулся до своего лба и, подтолкнув локтем г-на де Галандо, показал за спиною кардинала ему нос, меж тем как кардинал сюсюкал и шептал плача:
— Ты, ты… ты… хоро… ший… слу… га…
Но голос старика был внезапно заглушён резким и яростным шумом.
Ссора макаки Палиццио и павиана Франкавиллы возобновилась с новой силой, и теперь все обезьяны, возбужденные этим примером, принимали участие в борьбе. Свалка стала общею. Злобные, вызывающие и ожесточенные, они нападали друг на друга и когтями, и зубами, прыгая, скача и извиваясь. Кардинал при виде этого заметался в своем золоченом кресле. Его желтое лицо сводила судорога, и он неистово махал руками, похожими на сухие листья, поднимаемые ветром.
События шли совсем худо. Красные платья рвались на куски, развевавшиеся по воздуху в неистовых руках. В дыры выгладывало волосатое тело. Там были и атаки, и осады. Порою две группы сталкивались и составляли с этой минуты одну, где противники смешивались в общей битве. Так продолжалось несколько минут, потом без особой причины наступило спокойствие, и сражавшиеся внезапно очутились сидящими на задних ногах. Палиццио, продолжая еще ворчать, братски обирал блох на Франкавилле, который смотрел на откушенный и кровоточащий кончик своего хвоста, а белая обезьяна в папском одеянии, держась одною рукою за брусок перекладины, другою поднимала свое платье и с высоты тонкою струею, а потом капля за каплею мочилась от страха на песок.
Кардинал откинулся в отупении на спинку своего кресла, меж тем как из-за сосен приближались четыре носильщика с портшезом. Когда кардинал уселся, слуги взялись за палки, а так как г-н де Галандо приблизился к дверце, чтобы откланяться, то поймал как раз в свою протянутую шляпу золотую монету, и, ошеломленный, вероятно, долго стоял бы, разглядывая ее, до того он от изумления поглупел, если бы высокий лакей с салфеткою не подбросил фамильярным движением и шляпу, и золотой и не насадил первую на голову, а второй не вложил в руку г-на де Галандо, дружески подталкивая его по направлению к аллее, в которой уже скрылся красный портшез обезьянего кардинала.
Г-н де Галандо пошел прямо перед собою, не оборачиваясь, свесив руки и горбясь. В саду было пустынно и тихо. Бассейны кротко светились своими зеркальными водами, словно куски жидкого металла, врезанные с их прозрачностью в зыбкую поверхность облаков. Он дошел так до лестницы на террасу. Он с трудом поднимался по ступеням, ноги его отяжелели, словно золото, которое он держал зажатым в ладони руки, потекло по всем его членам и всех их напитало своею рабскою тяжестью. Запыхавшись, он остановился. Крики обезьян и сюсюкающий голос кардинала еще раздавались у него в ушах. Ему снова виделся золотой экю, падающий в его протянутую шляпу, и он еще словно ощущал пинок в спину высокого лакея. Он испытывал какой-то неясный и покорный стыд, и ему показалось, что кто-то смотрит на него. Он поднял глаза.
Античная статуя поднималась на цоколе наверху террасы. Эта статуя изображала нагого мужчину с воинскою каскою на голове и с рукою, вытянутою повелительным движением. Фигура была безупречной формы, с крепкими и сильными ногами, с широкими бедрами, с плоским животом, мускулистым и полным торсом, с упругою шеею, с правильным лицом, изваянная из мрамора, словно из плоти живой и в то же время вечной. Он, в самом деле, изображал то, что есть в жизни гармонического и здорового и что выявляется в человеке точностью пропорций и благородством стана; были странные ирония и противоположность между этою прекрасною, величавою мужскою фигурою, вознесенною на пьедестал, и жалкою личностью, которая смотрела на нее снизу, со своими смешными очертаниями, и которая, со своими спустившимися чулками, в платье с длинными полами, в съехавшем набок парике, печально свидетельствовала о том, во что превратился постепенно, игрушка темной и загадочной судьбы в руках насмешливой фортуны, Николай-Луи-Арсен граф де Галандо, владетель Понт-о-Беля во Франции, а в Риме принужденный, живя между куртизанкою Олимпиею и развратником Анджиолино, быть не более как подобием слуги, исполнявшим поручения вместо Джакопо и получавшим, взамен его, за свой труд фамильярный подарок — ничтожный экю.
XI
Когда г-н де Галандо очутился, сам не зная как, за пределами дворца Лампарелли, он постоял с минуту перед дверью, неуверенно и как-то тупо разглядывая золотой, который, лежа плашмя на ладони его руки, ловил и отражал лучи заходящего солнца. Был редкий конец осеннего дня, ясный и величавый; воздух, сухой и прозрачный, был напитан, казалось, какою-то жидкою энергиею. Большие цветистые облака проплывали по небу; они оставались там ровно столько времени, сколько было нужно, чтобы принять гармонические или героические очертания, и потом пышно удалялись в своем воздушном великолепии. В чистой и здоровой ясности воздуха предметы казались как бы долговечными, расположенными на их верных расстояниях, с их точными размерами. Дул умеренный ветерок.