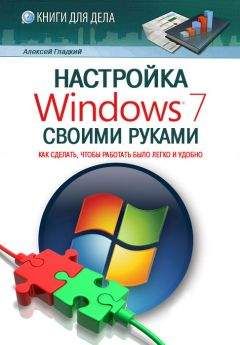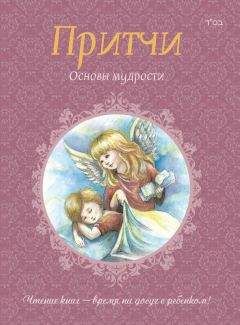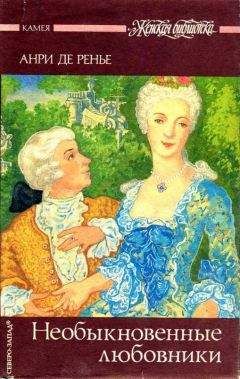Анри Ренье - Дважды любимая
Никакой опасности не было в том, что он ослушается. Деле дошло до того, что когда в дом входил старый кастрат Тито Барелли, который весьма развлекал Олимпию своею злобностью, своим фальцетом и своими нарумяненными щеками, разве нельзя было видеть, как по знаку своей возлюбленной достойный дворянин степенно вставал и подкатывал шуту кресло, в которое тот садился, поблагодарив его лишь легким кивком, при котором на затылке его мотыльком вилась черная лента, связывавшая его напудренный парик. Жаль было при этом, что, видя, как поступает Олимпия, гости привыкли делать то же и стали обращаться к г-ну де Галандо за множеством мелких услуг, которые скорее были делом маленького лакея Джакопо.
С другой стороны, случалось, что, в конце концов, Олимпия не могла уже обходиться без г-на де Галандо. Она звала его поминутно, лежала ли она в постели, сидела ли за своим туалетом. Он присутствовал при ее повседневной жизни во всей ее обнаженности, во всей ее неблагопристойности, так что каждый год ему приходилось немало мешков золота уплачивать за привилегию соединить свою священную старость с грехами этой юности, ленивой и распущенной, и жить под кровлею куртизанки, имея застольником развратника и негодяя во образе Анджиолино.
Добряк г-н де Галандо, в самом деле, каковы бы ни были его простота и наивность, не мог никак ошибиться в качестве своих гостей; они к тому же менее всего на свете старались скрываться и, не уставая, рассказывали о проделках своего ремесла. Таким-то образом узнал г-н де Галандо о подвигах Анджиолино и его разнообразных удачах и услыхал, как, совершенно не стесняясь, говорили о г-же Пьетрагрита, и о кардинале Лампарелли, и о многих других лицах. Итак, он узнал, что та Олимпия, которой он повиновался беспрекословно, таскалась по улицам и по кабакам, что, происходя их низов, она показывала свои лохмотья на всех перекрестках Рима и что она составляла для него довольно странное общество.
Он, казалось, этим не тревожился. Он спокойно смотрел, как его деньги переходили в руки двух мошенников. Более того, он не отдавал себе никакого отчета в крушении своей судьбы и отнюдь не представлял себе в точности жалкую необычность своего положения. У жизни есть особые хитрости, чтобы заставлять нас принимать с покорностью наихудшие обстоятельства, и пути ее таковы, что она ведет нас туда, куда хочет, а мы этого и не замечаем. Возможно, что если бы г-ну де Галандо показали заранее ту фигуру, которую он изобразит собою между Олимпиею и Анджиолино, то он отказался бы от этого фантастического будущего.
Разумеется, он был бы удивлен, если бы увидел себя в том же зеркале, перед которым Олимпия причесывала волосы, стоящим позади нее и подающим ей шпильки, гребень, помаду, не подозревая того, что, в конце концов, он выполнял при этом свое сокровенное и естественное назначение.
И в самом деле, разве он не был рожден для порабощения? Это расположение уходило далеко в глубь его прошлого, и он мог бы, вглядевшись пристальнее, различить в зеркале, отражавшем его как бы в обратной перспективе к нему самому, других господ де Галандо, различного возраста, но всех в одинаковой степени услужливых, начиная с того, который недавно наблюдал за стряпнёю старой Барбары, и кончая тем, который некогда помогал старику Илеру варить яйца в огромной и пустынной кухне Понт-о-Беля, или который с длинною метлою в руках гонял летучих мышей в спальне барышни де Мосейль, или, присев на корточки в усыпанной песком аллее, строил там сады из веточек и домики из камешков, чтобы этою игрою позабавить свою маленькую двоюродную сестру Жюли. Таким образом, необычное положение г-на де Галандо, находившегося в распоряжении Олимпии, вполне соответствовало в действительности его прошлому, и двадцатилетний юноша, некогда без надобностей глотавший лекарства, даваемые ему матерью, подготовил пятидесятивосьмилетнего мужчину, вскакивавшего при малейшем движении итальянки, чтобы поднять ей веер, опустить штору или бежать куда-либо по воле ее каприза.
Мало-помалу, говоря правду, от обслуживания лично особы Олимпии г-н де Галандо спускался до общих работ по дому. У него появлялась даже особенная гордость, свойственная слугам, по поводу хорошо выполненного возложенного на них труда. Он уже наивно гордился исполнением некоторых обязанностей. Одна, между прочим, поднимала его в его собственных глазах.
Олимпия доверяла только ему уход за своею маленькою собачкою Ниною с тех пор, как застала Джакопо проделывающим над нею различные злобные штуки, за что он и был избит Анджиолино, так что у него отнялась спина и были помяты бока. С тех пор г-н де Галандо готовил каждое утро пищу собачке Нине и купал ее в большой лохани посреди сада. Зверек относился к этому довольно спокойно. Он степенно ее намыливал; под его длинною костлявою рукою она вся утопала в пене; потом он обливал ее, и можно было видеть, как из ванны выскакивал, среди брызг мыльной пены, какой-то жирный и скользкий шар, который тявкал и которого г-н де Галандо, чтобы он скорее просох, побуждал бегать, делая для этого сам резкие движения. Но иногда дело шло худо. Нина становилась сварливою и вызывающею, с лаем кружилась около своего купальщика, хватала длинные развевающиеся полы его платья и, в конце концов, кусала его за икры.
Это зрелище безгранично веселило Олимпию и Анджиолино, смотревших на него из окна. Они появлялись там, только что вскочив с постели и нередко в весьма недвусмысленной позе. Г-н де Галандо обращал на их поцелуи или на их смех безразличный взгляд. Ему не было неизвестно то, из чего они, впрочем, и не делали никакой тайны. Он принял все без возражений, как он не замечал, казалось, и случайных гостей, которых развратник продолжал приводить к своей любовнице и которые проводили ночь с Олимпиею; их башмаки и платья по утрам в коридоре, он видел, чистил щеткою маленький Джакопо, посвистывая сквозь зубы.
Даже и без постоянного доступа в спальню Олимпии, представившего ему однажды молодую женщину в объятиях Анджиолино, г-н де Галандо открыл бы их связь, так как если они, не стесняясь, при открытых дверях выставляли напоказ свои ласки, то еще менее старались скрывать свои ссоры. Дом тогда оглашался их криками. Таким образом, г-н де Галандо оказался свидетелем и их ссор, и их примирений. Если ему случалось видеть, как Анджиолино бесцеремонно опрокидывал свою любовницу, то он видел также, как Олимпия плясала полуголая под палкою своего любовника. То были ужасные драки, из которых Анджиолино выходил весь расцарапанный ногтями, а Олимпия убегала, заливаясь злыми слезами.
Они схватывали друг друга за волосы, и среди опрокинутых стульев, сломанных предметов, обивок, залитых из бутылок и флаконов, которыми они сначала бросали друг другу в голову, они составляли бранчливую и воющую группу, около которой кружилась, жалобно визжа, собачка Нина, между тем как г-н де Галандо, когда сцена заканчивалась, поднимал с полу мебель, вытирал пятна от вина или раздавленных фруктов, сметал в кучки осколки стекла, убыль которого на следующий день должны были возмещать его золотые, или же он стоял неподвижно, свесив голову и опустив руки, и слушал в открытую дверь, запереть которую они даже не старались, потехи обоих влюбленных, которые давали исход своему гневу в любовной схватке, соединяя свои прерывистые дыхания и свои тела, вдвойне утомленные.
Г-н де Галандо слушал… там были долгие молчания, вздохи, смех… и он прислушивался напряженно, пока зов не заставлял его задрожать внезапно. Звали Джакопо, но г-н де Галандо откликался невольно вместо маленького лакея, — словно, исполняя его обязанности, он вместе с тем уже разделял и его положение, и он шел туда, неся на тарелке апельсины и лимоны, которые негодяй и негодяйка съедали под конец этих бурных дней для освежения рта.
Они закусывали поочередно один и тот же плод, а г-н де Галандо, под своим огромным париком, тощий, в своем поношенном сером платье, наклонялся молча, подбирая с полу корки и очистки.
X
Так как Джакопо еще хромал от удара палкою, полученного им за какую-то проделку, то поручение возложили на г-на де Галандо, который лучшего и не заслуживал. Г-н де Галандо шел маленькими шажками. Он осторожно спускался по лестнице Троицы, так как в руках он нес довольно большой ящик, завернутый в широкий кусок зеленой саржи. Время от времени он чувствовал, как ящик дрожал у него под рукою. То были скачки, прыжки, внезапные, неожиданные толчки. Пройдя сотню шагов, он останавливался, ставил ящик на землю, снимал шляпу, отирал со лба пот, так как было жарко, и снова пускался в путь, тщательно обходя прохожих, чтобы не задеть их углами своего ящика. Он имел вид разносчика, и было странно, что никто не попросил его показать свой товар. Поэтому он очень обрадовался, когда завидел фасад дворца Лампарелли, так как он был утомлен своею неожиданною ношею не менее, чем Геркулесы под каменною ношею балкона, вековую тяжесть которого они поддерживали. Он не обладал, надо сказать, ни их мускулами, ни их сложением и, преждевременно состарившись, казался гораздо дряхлее своих лет, тем более что в последние дни он был как-то особенно молчалив, необычен с виду, дурно настроен и плохо себя чувствовал.