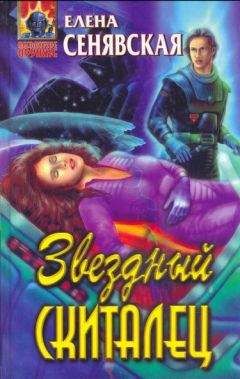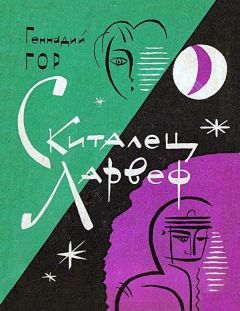Скиталец - Кандалы
Когда Вукол вошел в прихожую, пирушка была, по-видимому, в самом разгаре: в комнате собралось человек десять, было густо накурено, на столе виднелись бутылки, чай и закуска. Сквозь табачный дым, тускло просвеченный маленькой керосиновой лампой, все казалось фантастичным. Под аркой стоял Андреев-Бурлак, без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки, и с чувством декламировал монолог городничего из «Ревизора»:
— «…Найдется щелкопер, бумагомарака — в комедию тебя вставит!..»
Бульдожья физиономия артиста изображала теперь полное исступление и ужас старого мошенника. Что-то общее с лицом директора Нурминского показалось Вуколу в этом исказившемся лице. Грянул общий хохот слушателей.
VЕлизар с нетерпением ждал возвращения старшего сына на летние каникулы. Почти год прошел, как не виделись. В журнале «Нива», которым делился с ним Амос Челяк, понравился ему рассказ писателя Каразина «Старый Джулдаш и его сын Мемет», где описывалось, как город погубил красавца Мемета и как плакал над его безвестной могилой старый Джулдаш: «Слышишь ли ты меня, голубь мой?» Плакал Елизар, читая рассказ, который казался ему хорошим — потому что, читая, он воображал себя Джулдашем, и его длинные, трогательные письма сыну начинались теперь нежными словами «голубь мой!».
Захваченный городской жизнью, сын ответил не тотчас, извинялся, что и сам не заметил, как прошло время за учением и чтением; поделился впечатлениями своей жизни, писал о товарищах, о новых книгах и об актере Андрееве-Бурлаке, которого видел на представлении пьесы «Ревизор». Но обидным казалось отцу, что, попав в большой и богатый город, сын предпочитает ходить по театрам, вместо того чтобы ответить на его письма; забыл, видно, каково стало жить «старому Джулдашу» в приволжской ложбине среди безбрежных, извечно пустынных степей, между людей, никогда не видавших театра и не знавших, что значит хорошая книга. Впервые почувствовал свое одиночество Елизар. Сильно уменьшились его заработки, сократились заказы, только и было дела, что писал копии старых икон раскольникам-старообрядцам да занимался кое-каким ремонтом на бывшей неулыбовской мельнице.
Вся надежда была на Вукола: кончит учение, получит учительское место, Елизар переселится к нему, а там, смотришь, и младший птенчик подрастет, по дорожке брата пойдет.
Наконец, пришло письмо: сдал Вукол экзамены, перешел на второй курс. И день приезда обозначил.
С вечерним поездом, когда еще майское солнце не успело закатиться за край зеленой степи, приехал Вукол. Подкатила бричка ямщиков Романевых к самой двери Елизаровой избушки.
— Приехал! — раньше всех закричал тринадцатилетний Вовка, только что окончивший сельскую школу. Похож был на брата, крепышом рос, альтом говорил, а когда задумывался и хмурил белесые брови, на самой середине большого лба звезда обозначалась. Смеялся заразительно — всем от его смеха весело становилось.
Отворилась дверь, словно из земли вырос Вукол — высокий, худой, широкоплечий, с бледным красивым лицом.
— Здравствуйте!
Отец, обнимая сына, неожиданно заплакал. Из чистой половины выбежала Марья Матвеевна — кинулась сыну на шею.
В чистой половине самовар на столе, яйца всмятку и прочая закуска. Ждали редкого гостя.
Всей семьей сели вокруг стола. И Вовка тут же, смотрит на брата сияющими глазами: Вукол — образец для подражания.
— Похудел ты в городу-то! — жалостно говорит мать. — Кормят, видно, плохо? Часто ли в баню-то ходишь?
— Ну, зато — с победой? — спрашивает Елизар.
— Конечно! — весело смеется Вукол, решивший ничего не говорить о разговоре с директором. — Десять рублей пособия получил за прилежание и успехи! Книжек привез!
Елизар рассматривает книги, напялив на переносье очки в медной оправе: роман «Что делать?», «Письма Миртова», стихи Некрасова и подпольная литература: «Процесс 1 марта», «Хитрая механика», сказки Льва Толстого для народа.
— А ты пей чай-то! — прерывает мать книжные разговоры, — проголодался небось? закусывай!
Через час, когда мать и Вовка легли спать, отец и сын перешли в «мастерскую» и долго еще разговаривали вполголоса, чтобы не разбудить спящих.
Вукол рассказывал об институте, об учителях и директоре, о своих товарищах, о Филадельфове и о знаменитом актере Андрееве-Бурлаке.
— Ну да, конечно, театр — великое дело, ежели играют хорошие артисты! Я это понимаю, а написал тебе тогда в письме попреки сгоряча, несправедливо, сам сознаю! С горя это, сынок! Жизнь стала тяжелее, обедняли все! За счет бедного народа городские миллионщики сундуки золотом набивают! Вот и обидно! Земля теперь не только у помещиков — старинных наших врагов: мужик ослабел, последнюю свою надельную землишку в аренду купцу-землевладельцу сдает и сам же к нему в батраки поступает! Вот, думали мы с тобой прежде, что царя убили помещики за освобождение крепостных, а теперь видим, что и к купцу народ в кабалу идет!
Вукол с жаром рассказывал о том, что говорил Филадельфов в своих замечательных речах, и о том, какие книги читает их кружок. Теперь ясно, что подпольные люди хотят просветить народ и если не теперь, то в будущем непременно поднять его на помещиков и капиталистов, чтобы построить новую, справедливую жизнь. Это лучшие люди нашей страны, вся учащаяся молодежь с ними.
— Сочувствую им и я! — закончил Вукол свои рассказы.
Елизар слушал с большим вниманием.
— Все это хорошо! — сказал он раздумчиво. — Слава богу, что там, в городских слоях, что-то начинается, но возможно ли это и когда еще будет, да и будет ли когда-нибудь? Народ наш темен и дик! Знаю я крестьян, знаю и рабочих людей: мало у нас просвещенных голов — вот в чем горе!
— Все это будет! — с пламенной верой говорил Вукол, — не скоро, может быть, но будет непременно!
— Здорово тебя там настроили! — в раздумье присматриваясь к сыну, говорил Елизар. — Вижу, конечно, я ведь и сам тебя на эту дорогу поставил, но, смотри, сынок, береги свою голову: опасный это путь!
Вукол стал уверять отца, что опасности пока еще нет никакой: ведь он со своими товарищами пока еще только знаний набирается, чтобы было с чем идти в деревню на учительское дело.
В этот вечер Елизар больше слушал сына, чем говорил сам: не ожидал, чтобы Вукол сразу пошел по прямой линии к будущей революции, почти что мимо института.
— Ну, ты устал с дороги, ложись-ка, а я пока что ваши подпольные листочки почитаю… Посмотрим!
Елизар вздохнул, надел свои медные очки и погрузился в чтение.
Утром за чаем он при всех рассказал, какой ему сон приснился:
— Будто бы площадь какая-то и вся она народу полна, а среди площади помост устроен такой, как, бывало, устраивали, когда на «кобыле» кнутом казнили! Палач стоит в красной рубахе, но только в руке у него не кнут, а топор. Вдруг весь народ закричал: «Ведут! ведут!» Смотрю: ведут на эшафот приговоренного к смертной казни. Взошел он, народу кланяется, говорит что-то неслышное… лицо молодое, бледное… вглядываюсь, а это — ты! Палач толкнул тебя к плахе, и ты стал на колени и голову на плаху положил, а он в обе руки топор взял, напружился и занес его над тобой!.. Тут я проснулся.
— Дурной сон! — заметила Марья Матвеевна. — Не надо бы и рассказывать-то!
— Это ты нелегальщины начитался на ночь! — с улыбкой заметил сын. — Не следует ее на ночь читать!
— И то правда! Я вчера-таки долго брошюры эти читал: про Желябова да про Софью Перовскую. Герои-то они герои, а все-таки, по моему разумению, облегчения народу не получилось!
— А ты лучше «Что делать?» прочитай: для тебя привез — в ходу эта книга!
— Прочитать-то я прочитаю, найду время, а только ты этот сон мой намотай себе на ус!
Недели две Вукол отдыхал от ученых трудов своих: помогал отцу в иконописном художестве, тер краски на большом полированном камне, похожем на палитру, загрунтовывал кипарисовые доски для мрачных раскольничьих икон, в то же время порицая отцовскую деятельность. К чему поддерживать народное суеверие?
Елизар смеялся:
— Ничего! Не в том сила, что кобыла сива: ты разгляди — ведь это древнее художество, а суеверие само отпадет в свое время!
По вечерам Елизар читал привезенные сыном книги, рассуждая о значении Чернышевского:
— Вот и не подпольная книга, а как она человека приподнимает!
В оживленных беседах они казались скорее товарищами, чем людьми разного возраста. Подпольные брошюры интересовали Елизара и вместе с тем возбуждали страх за судьбу сына.
— Не держи ты на виду этот порох, спрячь куда-нибудь подальше: ведь неровен час — вдруг становой нагрянет, либо жандармы — пропадешь, как вошь в табаке!
Но юноша смеялся над стариком:
— А вот я на троицу в Займище уеду: там никакого начальства нет!
Мать слушала эти разговоры с тревогой; подолгу, молча и любовно смотрела грустными глазами на выросшего сына, как будто не могла наглядеться.