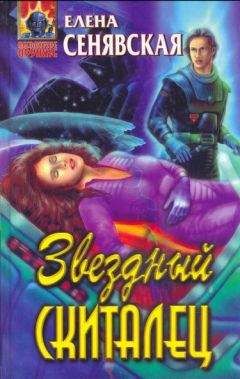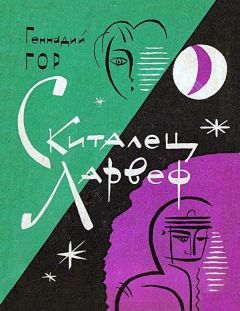Скиталец - Кандалы
Заходившие к ним одноклассники, зубрившие дни и ночи напролет, завистливо дивились.
— И когда они готовятся? Целый день играют в городки, а на экзаменах пятерки получают!
Но они и сами не знали, что после каждого экзамена моментально опять забывали все, чем только что была набита голова, и только эта способность быстрого забвения давала возможность с неослабевающей яростью устремиться на новый предмет. Толку от такого «учения» вряд ли было много.
К концу экзаменов энергия их начала выдыхаться. Появились зрительные галлюцинации. Вукол первый увидел в раскрытой геометрии тоненькую, как волосок, маленькую змейку, которая, как спираль или часовая пружина, то свивалась, то развивалась в центре нарисованного круга. Он вполне сознавал, что змейка только представляется ему, и все-таки ловил ее пальцами. Вслед за ним начали галлюцинировать Клим и Фита. Они закрыли книги и побежали на Волгу купаться, с разбегу бросаясь в холодные весенние волны. Так делали они после сдачи каждого экзамена.
По благополучном окончании экзаменационной страды Вукола неожиданно позвали наверх, к директору.
Сердце его екнуло от смутного и неприятного предчувствия. С первой встречи директор и Вукол инстинктивно ненавидели друг друга. Ничего хорошего нельзя было ожидать от их интимного собеседования.
Нурминский занимал весь верхний этаж огромного дома — целую амфиладу больших и высоких роскошных комнат, в которых царствовала строгая тишина.
Сторож, сопровождавший Вукола, шепнул, чтобы он подождал, и, оставив его у тяжелой драпировки огромной двери в большой и пустынной комнате с блестящим паркетом, на цыпочках пошел доложить.
Через минуту послышались тяжелые шаги, и из противоположной двери вышел директор, — как всегда, во фраке.
Вукол поклонился. Нурминский едва кивнул головой, не вынимая рук из карманов синих форменных брюк, и стал большими шагами ходить из угла в угол своего обширного кабинета, что-то обдумывая. Вукол стоял у двери в тревожном ожидании.
— Вот что, Буслаев, — раздался, наконец, писклявый голос, — я позвал тебя, чтобы сделать предупреждение… Никогда бы я и не знал, что есть на свете какой-то Буслаев да совсем это мне и неинтересно, что какой-то там Буслаев есть на свете, но…
Директор шагал взад и вперед на большом расстоянии «от какого-то Буслаева», говорил так, как будто в комнате никого не было, говорил подчеркнуто пренебрежительным тоном, словно шла речь о ничтожной букашке, которая копошилась около его сапога. Самый этот тон, которым он всегда разговаривал со своими воспитанниками, был как пощечина. Вукол, бледный, молча слушал, стоя у порога.
— Мне известен каждый твой шаг! — продолжал директор. — Ты, может быть, думаешь, что я ничего не знаю, а мне все известно. Как ты живешь, что делаешь, что читаешь, у кого бываешь и с кем ты знаком!
Он остановился против Буслаева и повторил:
— Все известно!
Вукол открыл рот, чтобы спросить его, зачем нужны ему эти известия и что из этого следует, но директор не дал ему и рта открыть.
— Не запирайся и не ври! Я все знаю! Я знаю, например, что ты знаком с известным революционером Филадельфовым!
Опять хотел что-то возражать Вукол, и опять ему не позволено было говорить.
— Этот человек, как и другие твои знакомые того же пошиба, находится под гласным надзором полиции, и я предупреждаю тебя, что если ты не прекратишь знакомства с ним и ему подобными вредными людьми, то будешь исключен из института! Я должен был бы исключить тебя теперь же, но в надежде, что ты, может быть, исправишься, оставлю тебя на год. Если же в будущий учебный год окажется, что ты не прекращаешь этих недопустимых знакомств, то предупреждаю — ты будешь исключен!
Вукол хотел было уйти, так как директор все равно не давал ему слова сказать, но тот опять заговорил, на разные лады повторяя уже сказанное о том, что он охотно бы никогда не знал, что есть на свете какой-то Буслаев.
Казалось, что «Пузо бездонное» говорило мучительно долго, истязуя ненужным пустословием. В ушах юноши раздавался противный, писклявый, монотонный голос.
Вукол почти не слушал вариантов уже сказанного. Ему казалось, что теперь говорит он сам в ответ на угрозы своего мучителя. Он выпрямился и следил за директором сверкающими глазами. Мысленная речь его лилась горячо и страстно. Переживая ее, он бледнел все более.
В этой воображаемой речи Вукол благодарил своего воспитателя за «предупреждение», которое обещал принять к сведению, но просил выслушать и от него всего только несколько слов. Он осмеливается напомнить, что господин директор не всегда был воспитателем, но когда-то, находясь в его, Вукола Буслаева, возрасте, был воспитанником, который в глазах прежних воспитателей тоже был только «какой-то Нурминский», совершенно неинтересный для них. Что же может быть хорошего из такого враждебного отчуждения между воспитателями и воспитанниками? Но если представить себе, что из юного Нурминского получился пожилой директор, руководитель и воспитатель поколений, то почему из каких-нибудь Буслаевых не может получиться выдающийся педагог, общественный деятель, профессор или писатель, имена которых могут быть более известными, чем имя директора педагогического института?
Почему нужно воспитывать будущих деятелей народного просвещения путем выслеживания каждого их шага, а в случае если они заводят неугодные начальству знакомства, исключать их из института?
О Филадельфове он, Вукол Буслаев, слышал как об очень образованном человеке, изучавшем жизнь народа опытным путем! Вукол не видит в знакомстве с такими людьми ничего страшного и находит жизненный опыт их поучительным. Если он, Вукол Буслаев, по молодости своих лет ошибается, то почему уважаемый директор не прочтет своим воспитанникам лекцию о людях, подобных Филадельфову, вместо угроз искалечить жизнь каждого только за интерес и любовь к родному народу и родной стране?
Выйдя от директора, Вукол долго бродил по улицам города, спустился к Волге, к пристани, и, зайдя в городской сад, где играл струнный оркестр, долго сидел над Волгой на зеленой садовой скамейке.
В саду по главной аллее гуляла нарядная публика. Солнце давно уже зашло за узорчатую гряду заволжского леса, и прозрачная весенняя ночь спускалась над городом. Узкий серп серебряного месяца бросал призрачный свет свой на неподвижную равнину великой реки. Вдалеке под лунным светом чернел силуэт плывущей лодки, полной пассажиров.
Черные тени людей, сидевших по бортам ее, рельефно вырезались на светлом фоне реки. Должно быть, именно в этой лодке пел далеко разносившийся могучий мужской хор:
Грянем, грянем мы, ребята!..
Дружно и густо, лавиной нарастали мощные басы, над которыми выплывал казавшийся знакомым бархатный голос, а сильные, высокие тенора стройно, заливисто подхватывали:
Ой, да по Волге!..
Сразу слышно было, что пели профессиональные певцы: либо это катались на лодке певчие, либо праздновали окончание экзаменов духовные семинаристы.
Вукол вспомнил, что и во флигельке против колокольни монастыря в квартире Солдатова тоже празднуется окончание экзаменов — назначена маленькая пирушка.
Но ему было не до пения и не до пирушек. Судьбу свою он считал решенной: его исключат. Вызывал ли к себе директор Клима и Фиту? Наверное! На душе была тяжесть, тоска: жаль отца, ждущего от него поддержки, жаль самого себя. Что же касается почти потерянной карьеры народного учителя — не жалел об этом: его тянул к себе город — мечта подготовиться в университет или в консерваторию.
Сам не заметил, как вышел из сада, медленно поднимаясь в гору к монастырю.
Во флигельке светился огонек, тренькала гитара, слышалось пение: гремел высокий бас баритонного тембра — это Фита демонстрировал свой обширный диапазон:
Но зато, если есть на Руси хоть один,
Кто с неправдой людскою не знался,
Кто лишь правдою жил, бедняка не давил,
Кто свободу, как мать дорогую, любил
И во имя ее подвизался, —
Пусть тот смело идет, на утес тот взойдет
И к нему чутким ухом приляжет —
И утес-великан все, что думал Степан,
Все тому смельчаку перескажет!
На последнем слове Фита развернул такую бесконечно нарастающую ноту, что казалось — монастырская колокольня валится.
Когда бас умолк, под звон гитары залился легкомысленный тенорок «графа»:
Наша жизнь коротка — все уносит с собою,
Наша юность, друзья, пронесется стрелою!
Несколько молодых голосов и вместе с ними чей-то явно пожилой, хриповатый, алкоголический, но сильный голос подхватили припев:
Проведемте ж, друзья, эту ночь веселей!
Когда Вукол вошел в прихожую, пирушка была, по-видимому, в самом разгаре: в комнате собралось человек десять, было густо накурено, на столе виднелись бутылки, чай и закуска. Сквозь табачный дым, тускло просвеченный маленькой керосиновой лампой, все казалось фантастичным. Под аркой стоял Андреев-Бурлак, без пиджака, с расстегнутым воротом рубашки, и с чувством декламировал монолог городничего из «Ревизора»: