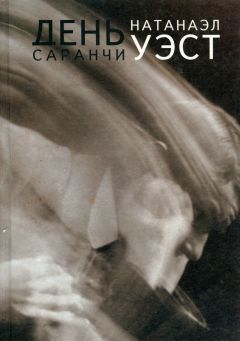Натанаэл Уэст - День саранчи
Он лежал на кушетке, закрыв глаза, и грудь его вздымалась. Он был озадачен не меньше Гомера. Сегодня он повторил свое антре уже четыре или пять раз, и ничего подобного не случалось. Он и вправду заболел.
— У вас был припадок, — сказал Гомер, когда Гарри открыл глаза.
Шли минуты; Гарри полегчало, и к нему вернулась уверенность. Он прогнал все мысли о болезни и до того воспрял духом, что даже поздравил себя с лучшим выступлением за всю карьеру. Этого здорового обормота, который склонился над ним, можно наколоть на пятерку.
— Есть у вас что-нибудь спиртное? — проговорил он слабым голосом.
Бакалейщик прислал на пробу бутылку портвейна, и Гомер пошел за ней. Он налил полстакана, подал Гарри, и тот выпил вино маленькими глотками, гримасничая, словно принимал микстуру.
Медленно выговаривая слова, будто от сильной боли, он попросил Гомера внести его ящик с образцами.
— Он на крыльце. Его могут украсть. В эти баночки с пастой вложена большая часть моего скромного капитала.
Выполняя его просьбу, Гомер вышел и увидел у обочины тротуара девушку. Это был Фей Гринер. Она смотрела на дом.
— Здесь мой отец? — крикнула она.
— Мистер Гринер?
Она топнула ногой.
— Скажите ему, чтоб выкатывался. Целый день его, что ли, ждать?
— Ему плохо.
Девушка отвернулась, ничем не показав, что она услышала или приняла к сведению его слова.
Гомер внес в дом ящик с образцами. Когда он вошел в комнату, Гарри как раз наливал себе вино.
— Вполне приличная штука, — сказал он, причмокивая. — Вполне приличная… ничего, ничего. Извините за бесцеремонный вопрос — сколько вы платите за бу…
Гомер перебил его. Он не любил пьющих и хотел спровадить гостя.
— Ваша дочь на улице, — произнес он со всей твердостью, на какую был способен. — Она вас ждет.
Гарри рухнул на кушетку и тяжело задышал. Он опять притворялся.
— Не говорите ей, — прохрипел он. — Не говорите ей, как плох ее старый папочка. Она не должна этого знать.
Гомер был потрясен его лицемерием.
— Вам уже легче, — проговорил он как можно более холодно. — Почему бы вам не отправиться домой?
Гарри улыбнулся, чтобы показать, как он уязвлен и обижен бессердечным отношением хозяина. Но когда Гомер ничего не ответил, улыбка видоизменилась и выразила безграничное мужество. Он осторожно поднялся на ноги, постоял минуту прямо, потом начал покачиваться от слабости и вновь опрокинулся на кушетку.
— Мне дурно, — простонал он.
Он опять был удивлен и напуган. Ему было дурно.
— Позовите дочь, — прохрипел он.
Она стояла у обочины спиной к дому. Когда Гомер ее окликнул, она круто обернулась и побежала к нему. Он посмотрел на нее, потом вошел, не закрыв за собой дверь.
Фей влетела в комнату. Не обращая внимания на Гомера, она подбежала к кушетке.
— Ну, чего еще? — крикнула она.
— Милая дочь, — сказал он. — Я очень сильно занемог, и этот джентльмен был так отзывчив, что позволил мне здесь полежать.
— У него было что-то вроде припадка.
Она обернулась к Гомеру так резко, что он вздрогнул.
— Здравствуйте, — сказала она, протягивая руку.
Он робко ее пожал.
— Очень рада, — сказала она, когда он что-то промямлил.
Она круто обернулась к отцу.
— Сердце, — сказал Гарри. — Встать не могу.
Небольшой номер, исполняемый отцом при продаже пасты, был
ей известен, и припадок в него не входил. Когда она вновь повернулась к Гомеру, вид у нее был трагический. Ее гордо откинутая голова поникла.
— Прошу вас, разрешите ему тут полежать, — сказала она.
— Да, конечно.
Гомер указал ей на кресло и поднес спичку к ее сигарете. Он старался не глазеть на нее, но тут как раз воспитанность была ни к чему. Фей любила, чтобы на нее глазели.
Она показалась ему немыслимо прекрасной. Но еще больше его поразила бившая в ней через край жизнь. Она была тугая и звенящая. Она сияла, как новая ложка.
Хотя ей шел восемнадцатый год, она была одета как двенадцатилетняя девочка — в белое бумажное платье с синим матросским воротником. На длинных голых ногах были синие сандалии.
— Мне очень неловко, — сказала она, когда Гомер снова посмотрел на отца.
Он жестом дал ей понять, что это — пустяки.
— Бедолага, сердце у него никудышное, — продолжала она. — Сколько раз я умоляла его показаться специалисту — но вы, мужчины, все одинаковы.
— Да, ему надо сходить к врачу, — сказал Гомер.
Ее жеманность и ненатуральный тон привели его в замешательство.
— Который час? — спросила она.
— Около часу.
Она вдруг вскочила и схватилась за голову, зарыв пальцы в волосах, отчего они приподнялись на макушке шелковистой копенкой.
— Ах, — грациозно выдохнула она, — а у меня в ресторане назначено свидание.
Все еще держась за волосы, она повернула торс, не сдвинув ног, так что ее тесное платьице натянулось еще туже, обрисовав изящно выгнутые ребра и маленький, с ямкой, животик. Это искусное телодвижение, как и все другие, было настолько бессмысленным и механическим, что она оказалась даже не манерной актрисой, а танцовщицей.
— Вы любите салат с лососиной? — отважился спросить Гомер.
— Салат с лососи-иной?
Она как будто повторила вопрос своему желудку. Ответ был — да.
— И много майонезу, да? Обожаю.
— Я начал готовить ко второму завтраку. Сейчас доделаю.
— Давайте я помогу.
Они взглянули на Гарри, который как будто уснул, и пошли на кухню. Пока он открывал банку с лососиной, она уселась верхом на стул, сложив руки на спинке и опершись на них подбородком. Когда он оглядывался на нее, она ему интимно улыбалась и встряхивала своими белыми шелковистыми волосами — сначала вперед, потом назад.
Гомер был взволнован, и его руки действовали быстро. Вскоре большая ваза салата была готова. Он расстелил лучшую скатерть и выставил лучший фарфор и серебро.
— От одного вида слюнки текут, — сказала она.
Сказано это было так, как будто слюнки у нее текли при виде Гомера, — и он засиял. Но к еде она приступила раньше, чем он сел. Она намазала ломоть хлеба маслом, посыпала сверху сахаром и откусила большой кусок. Потом шлепнула на лососину ложку майонеза и принялась за дело. Гомер совсем уже было приготовился сесть, но тут она попросила чего-нибудь попить. Он налил ей стакан молока и стоял, наблюдая за ней, как официант. Он не замечал ее бесцеремонности.
Когда она умяла салат, он принес ей большое красное яблоко. Фрукт она еле медленнее, деликатно его обкусывая и оттопырив согнутый мизинец. Покончив с яблоком, она отправилась в комнату, и Гомер пошел за ней.
Гарри лежал на диване, вытянувшись в прежней позе. Тяжкое полуденное солнце било ему прямо в лицо. Но Гарри не чувствовал его затрещин. Он был занят кинжальной болью в груди. Он был занят собой настолько, что даже перестал придумывать, как наколоть здорового обормота.
Гомер задернул штору, чтобы защитить его голову от солнца. Гарри и этого не заметил. Он думал о смерти. Фей склонилась над ним. Из-под опущенных ресниц он видел, что она ждет от него успокоительного жеста. Он воздержался. Он изучил трагическое выражение на ее лице и остался недоволен. В серьезные минуты, подобные этой, ее топорная грусть выглядела оскорбительно.
— Папочка, скажи что-нибудь, — взмолилась она.
Сама того не сознавая, она играла у него на нервах.
— Это что еще, к свиньям, за балаган? — рявкнул он.
Его внезапная ярость испугала Фей, и она, вздрогнув, выпрямилась. Он не хотел смеяться, но короткий лай вылетел из горла раньше, чем он успел с собой совладать. Он с тревогой ждал, что теперь будет. Хуже не стало, и он засмеялся опять. Начал он осторожно, но постепенно разошелся. Он хохотал, закрыв глаза, и по лбу его тек пот. Фей знала только один способ его остановить: сделать что - нибудь столь же ненавистное ему, как ей — его хохот. Она запела:
Елки-палки!
Чьи это там мигалки?
Она приплясывала, двигая ягодицами и дергая головой из стороны в сторону.
Гомер был изумлен. Он чувствовал, что сцена, разыгравшаяся перед ним, отрепетирована. Он не ошибался. Их самые ожесточенные ссоры чаще всего происходили именно так — он смеялся, она пела:
Елки-палки!
Чьи это глаза?
Как играют!
Сердце обжигают!
Как…
Когда замолчал Гарри, она тоже замолчала и упала в кресло. Но Гарри только собирался с силами перед решительным штурмом.
Он начал опять. Этот новый смех не был уничижительным, он был ужасным. Когда Фей была ребенком, Гарри наказывал ее этим смехом. Тут он достигал вершин своего мастерства. Один режиссер всегда вызывал Гарри с этим номером, когда снималась сцена в сумасшедшем доме или в замке с привидениями.