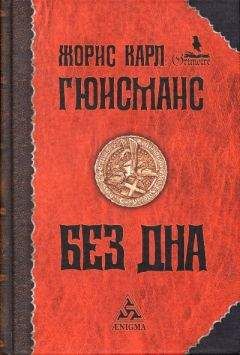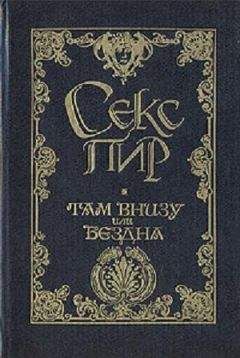Жорис-Карл Гюисманс - В пути
— Во первых, — рассуждал он, — устранимо последнее предположение. Наивно выдвигать будущее, когда речь идет о Боге. Мы судим Его нашим немощным разумом, тогда как на самом деле, для Него нет ни настоящего, ни прошедшего, ни будущего. В едином миге созерцает Он все времена в свете изначальности. Существуя в бесконечности, Он превыше пространства. В единое сливаются «прежде», «ныне», «после». Он, конечно, не сомневался в победе змия. Отпадает дилемма, у которой отсекают половину…
Понемногу к нему возвращалось самообладание. Медленно прочел символ апостольский, а жалящие мысли теснились одна за другой.
Ясность духа ничуть не страдала в этом споре и он сказал себе: «Я раздвоился — я в состоянии следить за своими доводами и одновременно вслушиваюсь в софизмы, которыми меня соблазняет мой двойник. Никогда столь явственно не обнаруживалась во мне эта двойственность».
И натиск ослабел, словно отбой забил разоблаченный враг. Но ненадолго. После краткого затишья приступ начался с новой стороны.
— Неужели веруешь ты в вечный ад? Воображаешь Бога более жестоким, чем ты сам, Бога, создавшего людей без их согласия, без просьбы их о жизни? И, претерпев муки бытия, они обречены еще беспощадным терзаниям смерти. Но разве ты не сжалился бы, видя пытку твоего злейшего врага, не просил бы о его пощаде? И если даже ты прощаешь, то может ли пребыть неумолимым Всемогущий? Сознайся, ты наделяешь его довольно странными чертами.
Дюрталь умолк. Его смущал ад, простирающийся в бесконечность. Естественный ответ, что наказание вечно в соответствии с вечною наградой, казался малоубедительным. Наоборот, из существа совершенного блага необходимо вытекает умаление кар и расширение восторгов.
Он обратился к доводам осветившей этот вопрос святой Екатерины Генуэзской. Она прекрасно объясняет, что Бог и в преисподнюю ниспосылает луч милосердия и сострадания, и что никто из осужденных не мучится по заслугам. Искупление не прекращается, правда, но может измениться, смягчиться, стать менее напряженным и суровым.
Она замечает также, что душа или упорствует или казнится в миг разлучения с телом. Грех не отпустится ей, если она непреклонна и не обнаруживает никакого раскаяния в содеянном.
Свобода выбора уничтожается со смертью, и навек остается неизменным состояние, в котором покидает воля мир.
Если, напротив, отрешится она от строптивой нераскаянности, то с нее сложится доля возмездия. Лишь тот обречен геенне вечной, кто сознательно не захотел во время покаяться, отказаться, отречься от своих грехов.
Добавим, что, по учению святой, не Господь посылает в ад душу, навек оскверненную пороком, но что она сама нисходит туда, ведомая своей греховною природой.
В общем, преисподнюю можно представить очень малой, а чистилище — весьма обширным. Ад, вероятно, населен слабо, предназначен исключительно для редкого злодейства, а в чистилище теснится стадо обнаженных душ, претерпевая наказание соразмерно с преступлениями, которые совершали они на земле. В таких мыслях нет ничего недопустимого, они весьма правдоподобно согласуют справедливость с милосердием.
— Великолепно! — настаивал издевающийся голос. — К чему тогда человеку самообуздание! Он с одинаковым правом может красть, грабить, убить отца, изнасиловать родную дочь. Он спасен, стоит ему покаяться в последнюю минуту!
— О, нет! Сокрушение уничтожает лишь вечность кары, но не ее самое! Каждого ожидает возмездие по делам его. Посягнувшему на отцеубийство или кровосмешение суждено наказание иной тяжести, иной длительности, нежели тому, кто их не совершал. Нет равенства в умилостивительном страдании, в муках искупления!..
Все религии признают загробное очистительное бытие, — так естественна, так напрашивается мысль о нем. Все они уподобляют душу воздушному шару, который, не выбросив балласта, не может подняться, не может достичь своих конечных целей. В культах Востока душа перевоплощается ради очищения. Прикасается к другим телам, словно металл, оттачиваемый о песчаник.
Мы, католики, отрицаем для нее продолжение житейской суеты, веруем, что душа облегчается, гранится, просветляется в чистилище, где Господь привлекает ее к себе, превращает, освобождает от скверны греха, пока не достигнет она совершенного погружения в Нем.
Решая тревожный вопрос о вечном аде, как не понять, что божественная справедливость обычно не стремится изрекать неумолимые веления. Человечество состоит большего частью из бессознательных злодеев и тупиц, не понимающих даже значения творимого греха. Их спасает их полное неведение. Те, которые совершают зло, зная, что делают, очевидно, виновнее первых. Но общество ненавидит людей исключительных и само не упускает случая покарать их, унижает, преследует их; позволительно поэтому надеяться, что Господь смилостивится над бедными душами, которых столь безжалостно в юдоли земной терзала людская толпа.
Значит, завидна доля тупиц, которых щадят и земля и небо?
— О, конечно! Но… Но… К чему спорить, все равно нам никогда не достигнуть понимания бесконечной божественной справедливости.
Довольно… Я изнемог от этой распри! Пытаясь рассеяться, отвлечься от гнетущей думы, разрушить наваждение, он хотел мысленно перенестись в Париж, но не прошло и пяти минут, как снова выступил двойник.
Опять увлекся он своими сомнениями. Убеждал себя, что даже чистилище слишком сурово, ибо Господь знал, что человек поддается искушению. Почему допустил он его, за что осудил человека?
— И ты говоришь о благости, говоришь о справедливости!
— Но это софизм! — воскликнул гневно Дюрталь. — Бог даровал каждому свободу, никто не искушается сверх сил. Иногда соизволением Творца соблазн превышает наши средства обороны, но это делается ради нашего уничижения, чтобы внушить нам укорами совести смирение, или по иным причинам, которые сокрыты от нас. Несомненно, тогда оценка грехов иная, чем если б мы совершили их по доброй воле…
— Человеческая свобода! Хороша, нечего сказать, свобода! А наследственность! А среда? Болезни мозга, нервов! Можно ли возлагать ответственность на человека, подталкиваемого болезненными влечениями, захваченного врожденным расстройством.
Но разве утверждает кто, что при таких условиях Всевышний вменит ему в грех его деяния? Нелепо вечное сравнение божественного правосудия с судами человеческими! Как раз наоборот! Бытие иной справедливости вытекает из обилия столь позорных людских суждений, и сами судьи лучше доводов теодицеи доказывают существование Божие. Как доказать вне Господа инстинкт справедливости, который до такой степени присущ всем тварям, что им обладают даже низшие животные?
А голос продолжал:
— Будь по твоему, но разве не меняется нрав в зависимости, например, от работы желудка? Разлившаяся желчь или расстройство пищеварения являются часто причиною нашего гнева, зависти, злословия. Источник незлобивости и радостей — в свободном обращении крови, в довольстве цветущего тела. Мистики — худосочные неврастеники, а твои экстатики — плохо питающиеся истерики, какими кишат сумасшедшие дома. Видения их — предмет научного исследования.
Дюрталь вдруг встрепенулся. Его слабо смущали эти материалистические доводы, они казались ему ничтожными. Все они смешивали орган с действием, обитающего с его жилищем, часы с часом. Их уверения покоились на ложном основании. Поистине достойно смеха тупоумное и пошлое уподобление блаженной умудренности, несравненного гения святой Терезы безрассудствам нимфоманок и безумных! Тайна оставалась неприкосновенной. Не смог и не сможет никогда никакой врач открыть душу в круглых или веретенчатых клетках, в белом веществе или серой ткани мозга. Конечно, они более или менее успешно справлялись с познанием органов, которыми душа обречена двигать, оставаясь сама невидимой и исчезая, когда после смерти они взламывают покои ее жилища.
— Нет, не для меня эти россказни, — решительно произнес Дюрталь. — А он? Или лучше он действует?
— Веришь ли ты в пользу жизни? В необходимость бесконечной цепи беспредельно длящихся страданий, которые для большинства не прекратятся и по смерти? Истинная благость ничего не измыслила бы, ничего не сотворила, ничего не воссоздала бы из тишины небытия.
Натиск упорствовал и под личиной разных новых отклонений возвращался в прежний круг. Это обессилило Дюрталя, и он понурил голову. Пред грозным изречением Шопенгауера: «Если Бог сотворил мир, то я не хотел бы быть этим Богом, ибо сердце мое терзалось бы при виде мирового горя!» — все ответы казались изумительно немощными, и не устаивал даже сильнейший из них, отнимающий у нас право судить, раз мы неспособны объять всех проявлений Промысла Божия, не можем постигнуть целостность Его творения! Пусть, с моей точки зрения, страдание есть истинное, обеззараживающее средство для душ, но разве не вправе я спросить, почему Создатель не изобрел средства менее жестокого? Ах! Как подумаешь о муках замкнутых в стенах сумасшедших домов, в палатах больниц, невольно возмущаешься и начинаешь сомневаться во всем.