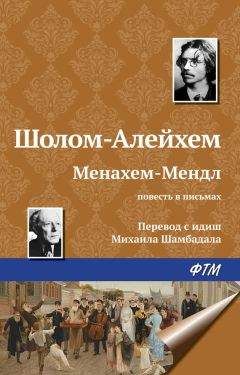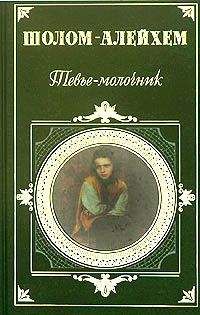Шолом-Алейхем - Менахем-Мендл. Новые письма
Шейна-Шейндл
(№ 221, 04.10.1913)
44. Менахем-Мендл из Егупца — своей жене Шейне-Шейндл в Касриловку.
Письмо двадцать седьмое
Пер. А. Френкель
Моей дорогой супруге, разумной и благочестивой госпоже Шейне-Шейндл, да пребудет она во здравии!
Прежде всего, уведомляю тебя, что я, слава Тебе, Господи, нахожусь в добром здоровье, благополучии и мире. Господь, благословен Он, да поможет и впредь получать нам друг о друге только добрые и утешительные вести, как и обо всем Израиле, — аминь!
Затем, дорогая моя супруга, да будет тебе известно, что я в Егупце! То есть не в самом Егупце, а возле Егупца, по ту сторону Егупца, в Слободке, которая числится в Черниговской губернии[529]. Ты ведь, вероятно, спросишь: что я тут делаю? — Все из-за Бейлиса! Писатели со всего света съехались сюда из-за Бейлиса, и я среди них, и ничего другого тут не слышно, как только Бейлис, Бейлис и Бейлис — повезло же человеку! Я ни сном ни духом не ведал, что окажусь ни с того ни с сего в Егупце, я бы сейчас, уж поверь мне, отправился лучше домой, к вам в Касриловку то есть, повидать тебя, дорогая моя супруга, детишек, чтоб они были здоровы, всю семью — столько времени не виделись! Но я в том виновен так же, как Бейлис — в том, в чем его обвиняют. Вот послушай.
За полминуты до моего отъезда из Вены, с конгресса, я уже и в дорогу был собран, приходит мне из редакции телеграмма, к тому же срочная: «Непременно сию минуту поезжайте Егупец дело Бейлис».
Получив такую бомбу, я остолбенел: во-первых, на что мне сдался Егупец и этот самый Бейлис, который мне не брат и не сват? Во-вторых, ну как я могу объявиться в Егупце — откуда у меня правожительство? Иду я и отбиваю телеграмму в редакцию, тоже срочную: «Строчите немедленно какой надобность какая правожительство?»
Ответ приходит довольно сердитый — редактор мой, как известно, человек строгий: «Не будьте Менахем-Мендл — не спрашивайте глупости говорят Егупец так Егупец!»
Нельзя же быть свиньей, приходится ехать в Егупец! С другой стороны, а где мне взять правожительство? Ладно, где наша не пропадала, — как говорит твоя мама: «Что со всем Израилем, то и с реб Исроэлом…»[530] И в самом деле, мало ли евреев приезжают изо дня в день в Егупец безо всяких признаков правожительства — и что? Умирают они от этого? Значит, так: прибываю я в Егупец поздно вечером. На улице тьма кромешная, сыро, холодно, а я как раз доволен тем, что темно. К чему мне, чтоб меня видели? Не из страха — чего мне бояться? Разве я что-нибудь украл? Или человека убил? А так просто, терпеть не могу иметь дело с полицией… Беру извозчика и говорю: «Пошел!» А извозчик спрашивает: «Куда?» А я ему снова: «Пошел!» Вот мужичья башка — говорят ему «пошел», так ему мало!
Короче, еду я и между тем думаю: что делать? Куда податься? Ведь не успею ступить, как укажут мне путь куда следует… Я ведь когда-то, не нынче будь помянуто, был здешним, хорошо знаю, каково на вкус наше изгнание, когда где днюешь, там не ночуешь, и дрожишь, словно вор, и валяешься, запуганный, всю ночь на чердаке или же, замерзший как собака, в подвале, и прочее подобное, по сравнению с чем муки преисподней — игрушки. В голове крутится: вертайся, то есть не повернуть ли извозчика обратно на вокзал, взять билет и — марш в Касриловку, то-то будет праздник? А с другой стороны, думаю: заработок! Раз редакция велит — так никаких отговорок, а то ведь и без места, избави Бог, остаться можно! Плохо… Что же делать? Вспоминаю: ба! У меня же в Егупце добрый друг имеется, только что в Вене на конгрессе познакомились, обнимались да целовались! Это тот самый учитель, знаток святого языка, который сперва одной рукой едва не прикончил наш жаргон, но с которым потом мы стали не разлей вода.
Адрес его у меня записан. Живет он где-то на Подоле, на Нижнем Валу. Добрый малый, думаю, в нужде не оставит. А с другой стороны, он же не бог весть какой богач? Не беда. От бедняка порой скорее добра дождешься, чем от богача, — готов поклясться! Недолго думая, обращаюсь я к своему мужику: «Пошел на Подолы, Нижний Вал!»
Услыхав слова «Подол» и «Нижний Вал», оборачивается он, мужик то есть, ко мне, сообразил небось, что я — еврей, не иначе, потому что ведь все евреи живут на Подоле… Какое мне дело, думаю, что ты там себе думаешь? Думай, пока не лопнешь! Лишь бы от твоих раздумий похуже чего не вышло… Гляжу по сторонам — люди, не сглазить бы, туда-сюда снуют, солдаты, слава Богу, вооруженные, на конях скачут, все как перед погромом, не нынче будь помянут. Я человек опытный, у меня на эти дела нюх… И становится у меня на душе муторно и отчасти тревожно… Но выдавать мужику, что я думаю, все-таки не хочется. Сдерживаюсь и обращаюсь к нему эдак весело: «Ого, нивроко[531], много народ!» Порядочно то есть у вас людей, не сглазить бы!.. Оборачивается он, мужик то есть, ко мне, глядит эдак на меня вкось, перестает гнать лошадь и говорит: «Оце вашего брата судят». Нашего брата то есть судят. В сердце у меня словно что-то оборвалось, но прикидываюсь дурачком: «Кого судят?» А необрезанный в ответ: «А Бейлиса!» Делаю вид, что не знаю никакого Бейлиса, что мне до него и дела нет: «А завыщо?» За что то есть судят-то? «Хиба вин кони крадет?» Конокрад он или кто?.. Ничего он, хам этот, не ответил, только хлестнул лошадку да глянул на меня так хитро, что все у меня внутри похолодело. Но я виду не показываю — шиш! Как гаркну на него грозно, словно барин: «Пошел Подол, буде на водка!» То есть езжай быстрее, получишь на выпивку, чтоб он так болячку получил… Испугать меня захотел — да ни в жизнь!..
Короче, добираюсь я благополучно до Подола, до Нижнего Вала, расплачиваюсь, как полагается, с извозчиком и начинаю осматриваться — куда меня занесло? Тьма кромешная. Фонарей нету, зарежут — и не пикнешь. Ощупываю стены, карабкаюсь по скользким ступенькам — едва нахожу приют моего друга, учителя, знатока святого языка! Дворец, по правде говоря, не так чтобы очень, Бродский, скажу тебе, живет много лучше, но зато сам он, мой друг то есть, как меня увидел — ну что тебе сказать, — как будто отец покойный с того света к нему спустился! Забросил все дела и давай со мной обниматься да целоваться, будто мы с ним много лет не виделись! Шолом-алейхем! Алейхем-шолом! Добро пожаловать в гости! Как вы тут оказались? Как поживаете, реб Менахем-Мендл? А вы как поживаете?.. Эх, как поживаем! Несладко, говорит, поживаем! Туда-сюда, разговорились, и как раз на простом еврейском наречии, без всяких фокусов и новомодных затей… Спрашиваю его между прочим: как это случилось, что он отставил в сторону святой язык? Машет рукой: «Эх, кто сейчас о таких вещах думает? Не до того, — говорит он, — сейчас, теперь у нас — Бейлис и только Бейлис!»
Короче, слушаю от него историю за историей, и все о нем, о Бейлисе то есть, такие истории, что волосы дыбом встают! И разговариваем мы с ним без умолку, и перебираем все процессы, что бывали до сего дня в связи с кровавым наветом, и спрашиваем мы один другого: как же так? Хоть караул кричи! Где это слыхано? Где мы находимся? В какие времена живем? Время между тем бежит, потихоньку, и ночь наступила, наелись мы бедами вдоволь. Хватит, говорит он, надрывать сердце, надо что-нибудь и на зуб положить. Идите, реб Менахем-Мендл, умойте руки[532]. И мы с ним, как полагается, умыли руки, уселись и перекусили — трапеза была не так чтобы очень, у Бродского, скажу тебе, получше едят, — и снова принялись разговаривать, и снова о Бейлисе, и снова о кровавом навете — уже голова кругом идет, в глазах рябит. Нужно, говорит он, и поспать немного, как вы, реб Менахем-Мендл, считаете? Говорю я: «Сделайте удовольствие». Но легко сказать «поспать», когда есть где, а у него, у моего друга то есть, всего-то-навсего его собственный диванчик с одной подушкой. Берет он и уступает мне диванчик с подушкой и говорит: «Вот, — говорит он, — вам диванчик, раздевайтесь, реб Менахем-Мендл, да прилягте». Говорю я: «Ну а вы?» Говорит он: «Ох, обо мне не беспокойтесь, я уж как-нибудь…» Говорю я: «Нет, на диванчик прилягте вы, а я уж как-нибудь…» Короче, он — мне, я — ему, диванчик туда, диванчик сюда — слышим в соседнем доме шум, и шум такой знакомый, бессонной ночью попахивает… Я уж в этих делах, слава Богу, человек опытный, у меня слух хороший… Обращаюсь к нему: «Сдается мне, что это облава»[533]. Говорит он: «И мне…» Говорю я: «Что делать? Прятаться нужно!» Говорит он: «И я так думаю». А сам ни жив ни мертв, и говорим мы с ним тихо-тихо, чтобы не услышали. «Где, — говорю я, — можно спрятаться?» Говорит он: «С этим заминки не будет. У меня, слава Богу, есть где. Имеются, — говорит он, — и чердак, и погреб. Вы что предпочитаете?» Говорю я: «Мне все едино. Лишь бы, — говорю, — в канун праздника не прогуляться по этапу до Касриловки[534], избави Бог…» — «Знаете что, — говорит он, — к чему нам обоим рисковать в одном месте? Наоборот, давайте сделаем, как в Писании о праотце Иакове сказано: „Если нападет на один стан и побьет его, то стан оставшийся будет спасен“[535]. Если, — говорит он, — схватят одного из нас на чердаке, так хоть второй останется, который в подвале. Или наоборот, если сцапают одного из нас в подвале, останется тот, который на чердаке. Как вам, — говорит он, — эта мысль нравится?» — «Мысль, — говорю я, — замечательная, но нам бы побыстрее, выражаясь вашим ученым языком, перейти от слов к делу…»