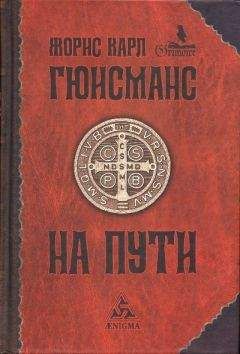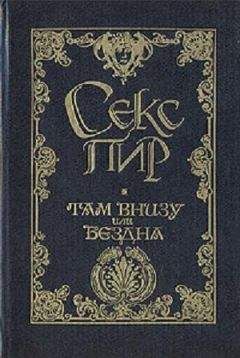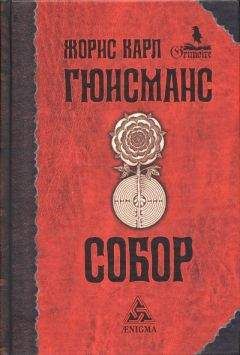Жорис-Карл Гюисманс - Без дна
— Да, в этом что-то есть, — согласился Дюрталь.
— И эта традиция нарушена. Теперь толстосумы запечатлевают на колоколах, которыми одаривают церковь, свои имена и титулы. А так как званий и титулов у них хоть отбавляй, для девиза места не остается. В наше время людям не хватает смирения.
— Если бы только смирения, — вздохнул Дюрталь.
— Да, если бы только смирения, — эхом отозвался Каре, который никак не мог успокоиться. — Но колокола без работы ржавеют, металл глохнет и, лишенный благозвучия, уже не способен к тонким переливам; в старину эти чудесные подручные священнослужителей пели непрерывно, отмечали часы уставных служб: заутреня и хвалебны перед восходом солнца, час первый на рассвете, час третий в девять, час шестой в полдень, час девятый в три, и еще вечерня и повечерие. Теперь же они приглашают к мессе, которую служит настоятель, три раза к «ангелус» — к утреннему, дневному и вечернему, — да по некоторым дням несколько перезвонов возвещают о том или ином обряде — и это все. Колокола все время в работе лишь в монастырях, ведь там, по крайней мере, сохранились ночные службы.
— Да будет об этом, — сказала госпожа Каре, взбивая подушку у него за спиной. — Успокойся же наконец, а то еще пуще разболеешься.
— И то правда, — смирился звонарь. — Но что ты хочешь, я ведь как был, так и остался мятежником. Такого закоренелого грешника, как я, лишь могила исправит.
И он улыбнулся жене, стоявшей перед ним с микстурой.
В дверь позвонили. Госпожа Каре, открыв, ввела высокого румяного священника.
— Никак это лестница в рай! Я чуть не задохнулся! — воскликнул тот и, тяжело дыша, рухнул в кресло.
Через некоторое время гость вошел в спальню и обратился к Каре:
— Ну как вы, друг мой? Сторож сказал, что вы захворали, вот я и решил навестить вас.
Дюрталь внимательно посмотрел на вошедшего, раскрасневшееся лицо которого с выбритыми до синевы щеками дышало неуемным весельем.
Каре представил их друг другу. Дюрталь холодно ответил на недоверчивый поклон аббата. Он чувствовал себя лишним, ему неловко было смотреть, как звонарь с женой, сложив на груди руки, благодарили аббата за то, что он поднялся на башню. Явно бросалось в глаза, что для этой четы — хотя и он, и она были наслышаны о порочных нравах священнослужителей — духовное лицо считалось неким избранным, высшим существом, рядом с которым все другие в счет уже не идут.
Дюрталь распрощался с хозяевами. «Как неприятен этот жизнерадостный аббат, — размышлял он, спускаясь по лестнице, — священнику, врачу, писателю вообще не пристало веселиться, ведь по роду своей деятельности он утешает, лечит и запечатлевает в слове человеческие страдания. Если после этого он хохочет, прыскает со смеху, то это уже верх бесстыдства. Что, впрочем, не мешает бесчувственным людям сетовать на то, что роман — выстраданный, основанный на реальных наблюдениях — так же печален, как сама жизнь, которую он отражает. Они желают веселья, шутки, румян — они настолько низки и себялюбивы, что хотят забыть о жизненных невзгодах, с которыми сталкиваются каждый день.
Все же Каре с женой — чудные люди! Им приходится повиноваться притворно отеческой опеке священников, и все равно порой это выглядит совсем не забавно — они почитают их и благоговейно склоняют перед ними головы. Ах, эти чистые души, смиренные, полные веры! Я не знаю пришедшего священника, этого краснощекого говоруна, но он весь заплыл жиром и весел до безобразия. Меня не убеждает пример святого Франциска Ассизского, который на все смотрел весело — мне его веселость не по нраву. Трудно такого священника представить натурой возвышенной. Более того, ему и сподручнее быть посредственностью. В противном случае как бы его воспринимала паства? Да и будь он выдающейся личностью, его бы ненавидели коллеги, преследовал бы епископ!»
Так рассуждая с самим собой, Дюрталь добрался до низа башни. Под портиком он остановился. «Я рассчитывал пробыть наверху подольше, — подумал он, — сейчас только полшестого. До обеда по крайней мере полчаса».
Было уже совсем тепло, снег сошел. Дюрталь закурил папиросу и медленно побрел по площади.
Подняв голову, он поискал окно звонаря и тут же его узнал: среди полукружий окон на фасаде лишь на одном висела занавеска. «Ужасное сооружение! — пришло в голову Дюрталю, когда он рассматривал церковь. — Как подумаешь, что этот многогранник с двумя башнями по бокам дерзнул воспроизвести архитектуру собора Нотр Дам! Ну и наворочено! От паперти до второго этажа вздымались дорические колонны, а дальше, до высоты третьего — ионические с волютами. И наконец, от земли до самого верха башни — коринфские с акантовыми листьями. Что может означать эта мешанина античных ордеров — тем более на колокольне? Другая башня вообще не закончена, но, даже оставленная в виде цилиндра из неотесанного камня, она не так уродлива!
А воздвигали это жалкое нагромождение камней пять-шесть архитекторов. Но, по существу, эти Сервандони и Оппенорды{62} оказались истинными Иезекиилями зодчества, и произведение их пророческое. Это прорицание в камне, созданное когда железных дорог еще не было и в помине, предвосхитило восемнадцатый век, явившись прообразом будущих железнодорожных станций. Сен Сюльпис — вовсе не храм, Сен Сюльпис — вокзал.
Внутреннее убранство церкви ни в художественном, ни в религиозном отношении не отличается от внешнего. За исключением верхотуры славного Каре тут и смотреть-то не на что!» Дюрталь огляделся: площадь довольно безобразная, но от нее веет провинциальным уютом. Трудно себе, правда, представить что-либо уродливее здания семинарии, которое источает прогорклый холодный запах богадельни. Фонтан с многоугольными бассейнами, вазами в форме мисок, львами, венчающими водостоки, прелатами в нишах — тоже не шедевр, как, впрочем, и мэрия, казенный стиль которой производит настолько удручающее впечатление, что глаза бы не смотрели. Но на этой площади, как и на прилегающих улицах Сервандони, Гараньер, Феру, царит благотворная тишина и приятная свежесть. Пахнет истлевшими афишами и немного ладаном. Площадь прекрасно гармонирует с домами ближайших старинных улиц, магазинчиками сувениров, мастерскими по производству икон и церковной утвари, лавками, где продаются религиозные издания в коричневых, серых и синих переплетах!
Все дышит ветхостью и скромностью. Площадь почти пуста. Несколько женщин поднялись на крыльцо храма, где, позвякивая монетками в кружках, шепчут «Отче наш» нищие. Священник с книгой в черном суконном переплете под мышкой кланяется дамам с невыразительными, блеклыми глазами. Бегают собаки. Носятся друг за дружкой или прыгают через веревочку дети. Огромные, шоколадного цвета омнибусы отходят в Ла-Вийет, маленькие, светло-коричневые — в Отей, те и другие — практически пустые. На тротуаре возле общественного туалета болтают извозчики, тут же стоят их экипажи. Тишина, малолюдье, деревья — все, как в сонном заштатном городишке.
«Надо как-нибудь, — подумал Дюрталь, вновь оглядывая церковь, — когда будет потеплее и посветлее, забраться на верх башни». Но он тут же покачал головой. «Зачем? Париж с высоты птичьего полета был интересен в Средневековье, но теперь… Так же, как с вершин других башен, я увижу множество серых улиц, белые линии бульваров, зеленые пятна садов и скверов и совсем вдали — похожие на поставленные на ребро костяшки домино ряды домов с чернеющими точками окон.
И здания, которые вздымаются над поверхностью крыш — собор Нотр Дам, Сент Шапель, Сен Северин, Сент Этьен дю Мон, башня Сен Жак, — теряются в жалкой массе новых строений. Меня вовсе не тянет любоваться Оперой, этим образчиком галантерейного искусства, аркой, которая носит название Триумфальной и ажурным подсвечником Эйфелевой башни!
Довольно и того, что видишь их снизу, с мостовой, на поворотах улиц. Пойду-ка пообедаю, — решил он, — ведь у меня свидание с Гиацинтой, и к восьми надо вернуться домой».
Дюрталь направился к торговцу вином, который держал неподалеку кабачок, пустевший к шести часам, — здесь можно было спокойно порассуждать с самим собой, пережевывая довольно свежее мясо и запивая его искусно подкрашенным вином. Он думал о госпоже Шантелув и особенно о канонике Докре. Загадочный облик этого священника не давал ему покоя. «Какие мысли могли посещать человека, топтавшего Христа на своих подошвах? Какая ненависть говорила в нем? Мстил ли он Спасителю за то, что Тот отказывал ему в благочестивых экстазах, которые даровал своим святым, или тут причина более прозаическая — не вознес его Христос на самые высокие ступени священства? Ясно только, что им владели неутолимая злоба и безмерная гордыня. Ему, должно быть, нравилось вызывать в людях страх и отвращение, это возвышало его в собственных глазах. А какое блаженство для такой глубоко порочной натуры с помощью колдовства безнаказанно мучить своих врагов! И наконец, оргиастическое веселье и безумные наслаждения порождают святотатство. Со времен Средневековья к этому роду преступлений пристрастились люди трусливые, ведь за руку их не схватишь, человеческое правосудие тут бессильно. Но особенно громадное значение эти злодеяния приобретают для верующего, а ведь Докр верит в Христа, раз так Его ненавидит!