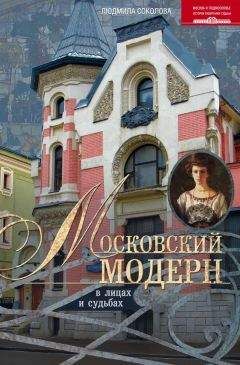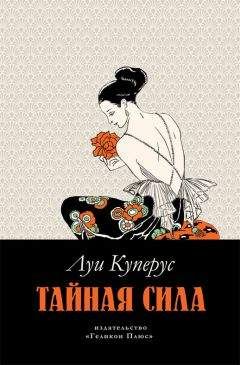Рихард Вайнер - Банщик
Если читатель еще помнит, в начале настоящего памфлета мы объявили о намерении представить поэтику не только данной книги, но и всех наших забытых работ — прошлых и будущих. Мы не отклонились и не отклоняемся от этого намерения.
Мы назвали эту книгу «Сонником»[29]. Заметим для начала, что мы рассматриваем это слово не в его привычном свете. Наш сонник снов не толкует — он их сохраняет; это — гербарий снов. Наверное, он — нечто более высокое или, по крайней мере, хочет таковым быть. Позже мы увидим, удалось ли ему это.
Здесь настало время поговорить о себе. Ошибается тот, кто считает, что мы несколько запоздали со своими откровениями. К подозрениям склонны даже неплохие люди: при виде местоимения «я» они удрученно покачивают головой, приговаривая: «Ну вот, опять он тут!» Это потому, что они находятся во власти предрассудка, будто самый прямолинейный вывод как раз и есть вывод единственно верный. Это одно из распространеннейших заблуждений. Думать, что тот, кто говорит в первом лице, говорит о себе, значит одновременно недодумывать и думать слишком далеко вперед: те, которые хотя бы пытались следовать за моей мыслью, обнаружили уже, что я использую местоимение первого лица единственного числа прежде всего тогда, когда говорю, скажем, об ангелах; поверят ли они мне, если я добавлю, что знаю многих, кто, говоря об ангелах, говорит в основном о себе? Итак, пришло время сказать о себе правду. Это неприлично. Многие на нашем месте сделали бы то же самое, они бы сделали и в десять раз больше — да и как еще объехать собственную поэтику, если не на той кобыле, что являет собой хромое, но упорное я? — однако использовали бы синтаксические и иные уловки, чтобы ничего никому не примерещилось, чтобы никто ничего не сказал. Человеку, связанному по рукам и ногам, наивно полагать, что ему удастся смягчить читателей и критиков — читатели и критики: это почти плеоназм, — тем, что он — в цепях — станет притворяться, будто кокетничает с безличным. Если я не ошибаюсь, у меня репутация моралиста. Если нет, то тем хуже, ибо она была бы заслуженной. Но позвольте досказать: иметь репутацию моралиста — это то же самое, что иметь репутацию педанта. А быть педантом — значит быть музыкантом, играющим фальшиво с таким упорством, что вас не потерпит ни один оркестр. Правильно играть в ансамбле означает выполнять определенный минимум, которым как раз и является игра в общем ключе. Оркестр составляют те, кто расслышал общий «ключ своей эпохи» и для кого важно именно в этом ключе постичь собственную партитуру. Но не приведи меня бог бросить отдельным участникам ансамбля, столь достойного презрения, упрек, который несомненно заслужил весь ансамбль как таковой. Надеюсь, что каждому из участников время от времени доводится взять фальшивую ноту. Именно что надеюсь: ибо фальшь неизбежна, если слушатель, а главное музыкант, хочет выпутаться из лжи — и это существенно, — словно «эпоха» на самом деле хоть чем-то отличается от рубашки, которая пачкается трижды в неделю. Все, что важно, вне «эпохи». Так называемые ценности — ценности любого рода — представляют собой душную халупу, которая хороша только на зиму. Взять фальшивую ноту — и это так естественно! — это то же самое, что разбить оконное стекло. Ведь даже мерзляку иногда бывает нужно, позарез нужно выйти на мороз. Очутиться там, где вместо сыгравшихся музыкантов он услышит произведения, исполняющиеся, быть может, фальшиво (кто знает!), но имеющие хотя бы то преимущество, что они штучные. Я не хвастаюсь, будто никто, кроме меня, не умеет фальшивить. Фальшивит множество людей — причем частенько. Поэтов много — и поэтическим грезам предаются не только люди, — так почему же они стыдятся, взяв фальшивую ноту, вместо того чтобы, напротив, гордиться этим? Почему они стыдятся, случись им оказаться моралистами, то есть случись им напомнить об ответственности и напоминанием этим обратить людей в соляные столпы, сотворить из них соляные столпы? Теперь я поведу речь об определении этой ответственности. Ясно, что художник не имеет права согласиться на то, чтобы быть ответственным перед коллективами, — и пусть никто не думает, что это у меня от Юлиана Бенды, я говорю так, ибо я в этом убежден, и именно потому, что я в этом убежден, теперь подобным же образом станет думать любой, — такими коллективами, как родина, класс, группа, церковь, синдикаты и политические партии. Горько, что приходится напоминать эту неколебимую истину. Он обязан отказаться быть ответственным перед всем тем, что с этим прямо или косвенно связано: справедливостью, социальной совестью и правдой, любовью к ближнему, самаритянским фетишизмом, прогрессом и евгеникой, всевозможными реформами и революциями, цивилизацией, наукой, искусством и народным образованием. Если поэт не в силах сотворить то, что сотворяют нечаянно — да, нечаянно! — предметы столь униженные и презренные, как дождь, перебирающий четки на крыше нашего дворового сарая; зеленая полоса, задержавшаяся после захода солнца на западном краю неба несколько дольше, чем предписывает ей атавистическая и ставшая машинальной человеческая память; ребенок, однажды на наших глазах в полпятого пополудни переходивший безлюдную деревенскую площадь, трубя при этом в садовую лейку; писк, возмутительным образом выбившийся на рассвете из общего бесхребетного птичьего хора; зеленые, как трава, жалюзи прокаженного домика в южнофранцузском городке, соскопившие с одной петли, и на них видна четкая черная полоса, бессмысленно намалеванная краской (о, эта мечтательность!); слово Caillaux[30], написанное углем на обороте рекламного щита в трехстах метрах от станции Ле Лиоран, надпись, бросившаяся нам в глаза, когда мы, прогуливаясь, подняли нос от Монтеня, которого перед тем читали (эссе о жестокости); ящик на вокзальном перроне, ожидающий поезда, но в таком отдалении от остального товара, что в этом таился некий умысел, и если бы вы посвятили меня в его суть, я был бы вам безмерно благодарен, ибо одновременно разъяснилось бы и все остальное, что не даст мне покоя (lasciate ogni speranza[31]); итак, я утверждаю: если поэт не в силах сотворить то, что сотворяют эти презренные и униженные предметы (вы действительно думаете, что Эйфелева башня — самое высокое парижское сооружение? неподалеку от монтрейских ворот я знаю один выкрашенный оливковой краской домик с маленьким кафе; трамвайные пути проходят от него столь близко, что 25 марта 1926 года я пережил там несколько секунд такого ужаса — и это оливковое за моей спиной! — что разглядел все походы Александра, да еще в подробностях…); итак, повторяю: если он неспособен на то, на что способны эти презренные и униженные предметы и еще множество иных, которые — в сравнении с Эйфелевой башней или с важностью клятвопреступного священника, служащего пасхальную мессу, — кажутся еще менее значительными, то пускай он посчитает для себя великой честью, когда кто-нибудь предложит ему ответственную должность — компостировать билеты в подземке! Ибо если он не в силах сотворить то, что так легко и естественно — точно ненароком! — удается этим клавишам бог весть какого органа, которых случайно и неизбежно касаются пальцы бог знает какого рассеянного и сосредоточенного музыканта, то пусть он осознает, что все прочее под силу кому угодно, и кто угодно превзойдет его в этом, так что ему нечего и пытаться. Ты расплакался? Слезы — бисер, действительно предназначенный свиньям. Последний актеришка из бродячего театра, мечтающий лишь о том, чтобы служанка на его следующей квартире была посговорчивее, превзойдет его. Удалось ли тебе так вдохновенно описать человеческое великодушие, что и в грудь подлеца ворвался некий очистительный вихрь? Забытый государственный деятель, удвоивший территорию своей страны, заслуживший неблагодарность, отправленный в отставку из-за интриг и все же не ставящий это в вину своим политическим противникам, превзойдет тебя, едва обмакнув перо в чернила… а речи над его гробом, какая это золотая жила для суетливых выскочек, но если задуматься, то золото это добывается проходимцами в засохших навозных кучах… Ни то, ни другое? Тогда, поэт, ты, наверное, горишь честолюбием до такой степени по-коровьи растрогать человеческие души, чтобы девушка, читающая под цветущей яблоней последний роман господина Моруа, оторвалась от книги и принялась искать глазами описанный тобой кусочек горизонта (прислушайся-ка к кукушке и перепелкиному свиристению), куда унылый ее взгляд, настоенный на целомудрии, вонзится, как палец в масло? Послушай: в одной деревеньке департамента Верхняя Луара я знаю семидесятилетнюю старушку, высохшую, как мушмула. Когда колокол звонит к молитве, она устраивается перед своим домиком с подушечкой для плетения кружев и принимается так стучать коклюшками, что если закрыть глаза, то можно подумать, будто это ангелы играют в кости. Румяный закат. Бим-бом; мир да покой; длинные вереницы коров, бредущих с пастбищ, — завтра их погонят на бойню — путник взошел на вершину соседнего с деревушкой холма, усталый, он страдал от голода и жажды, иначе говоря: не любая чушь была ему не чужда — и узрел эту идиллию. Какие стансы Вергилия отважились бы соперничать с нею. Путник тает, тает; что бы ты там ни высидел, оно никогда не растрогает его так, как эта естественная и бесхитростная олеография… Загляни-ка лучше в кабачок — Главная улица, дом пять, — где ждут тебя ветчина с яйцами и кувшин местного вина… Ты, верно, специалист по производству отзвуков психических головокружений? Да уж, от суповой кастрюли, в которой ты мешаешь лаву из пропастей, зияющих меж гор, уже покоренных «духом», и Гималаями, «которые еще предстоит штурмовать», тянет смрадом. Какая жалость, право! Вчера меня остановила госпожа Робер, сказавшая: «Я пригласила пять гостей, но у нас лишь четыре стула. Как мне быть?» Не знаю, госпожа Робер, как вам быть, но я вас поздравляю. Благодаря благословенной вашей беспомощности я столкнулся с проблемой более головокружительной, чем запутаннейшая антиципационная теория Уэллса. Поэту, который спекулирует на неустрашимом героизме и его чувственных коррелятах, я отвечаю: Линдберг. Тому, кто думает, будто показывает тебе бог знает какое далекое ничто, когда прижимает твой нос к телескопическому окуляру, я привожу в пример ярмарочного звездочета с его куклой из молочного стекла… Головокружительная любовь? Цветущий конский каштан; скамейка; полнолуние, пока еще робкое; десять ударов с башни собора; шаги одинокого прохожего где-то вдали; он приближается, он незамеченный подошел к этому конскому каштану как раз тогда, когда раздалось «а-ах!» — одно, непреложное, неоплатное и неподкупное, бесстыдное и мученическое, вместе «ой» и «аллилуйя» — «а-ах!», от которого Песнь Песней убегает без оглядки, как Давид от Голиафа, тот Давид, который, в отличие от библейского, не стал бы мошенничать. «А-ах!», которых в майские ночи, как хрущей, и которые безмерно ценнее, чем твоя трусливая эротика.