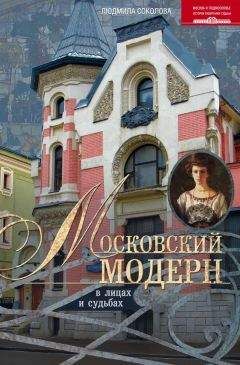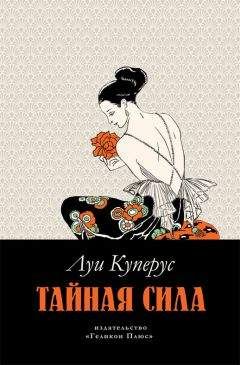Рихард Вайнер - Банщик
— «Pardon», — говорит он, — сон вовсе не плоское воззрение, напротив, более чем вероятно, что он взят из четвертого измерения. (Не время ли это?)
Думаю, я нашел ответ на вопрос, почему господин Метерлинк так отстаивает четвертое измерение (а также пятое, шестое и т. д., различие чисто количественное, а совсем не качественное, ибо наше представление о четвертом как две капли воды похоже на представление о пятом, и т. д., то есть оно никакое). Это оттого, что он верит в большее и меньшее. Ему кажется, что будет уместнее поставить сон, который он считает явлением если не необычайным, то, по крайней мере, из ряда вон выходящим, под защиту цифры 4, а не 2 (цифра 3 в расчет не принимается, ибо выражает, несмотря на все свои мистические корни, трехмерный материальный мир, мир, зримый «суждением»), и только потому, что 4 ему кажется большим, то есть в определенной мере более возвышенным, чем 2. А представьте себе, что это предпочтение проявляет кто-то, кто, говоря о мире четырехмерном, объясняет его еще и как мир, где часть может быть больше целого!..
Зачем я все это пишу? Чтобы показать, как часто даже самого горячего желания мало для того, чтобы влиться в сверхъестественное.
Почему «четырехмерное» должно быть чудеснее двухмерного, каким — тут мы опять передаем слово естествоиспытателям — представляется мир немым тварям? Сон как врата в четвертое измерение (что это такое)? Почему я должен признавать за ним «больше» необычайности, чем за двухмерным миром немых тварей, которые «там, где человек видит неподвижное тело, ощущают движущуюся плоскость»? Если мир чудесного четырехмерный, то и мир двухмерный таков же. Но выбросим цифры за борт. К какой бы из них мы ни прибегли, она каждый раз приведет нас все к тому же зыбкому континенту. Сон-символ? Сон-иносказание? Сон — выныривание подцензурного я? Может, то, а может, это. То ли, это ли — безразлично, ибо и то, и это является одинаково произвольным путешествием в край до первородного греха. А если такого определения сна вам не достаточно, оставьте надежду что-нибудь понять. Хотя что значит понять, когда речь идет о сне? Поэтому выразимся четко: оставьте надежду на то, что когда-нибудь вам попадется летательный аппарат, с которого все видится так, как видят птицы, хотя (именно поэтому!) аппарат остается на земле.
Свобода падали и свобода ангелов. Свобода тех, кому отказали в выборе; свобода сплавляемых, летящих, возносящихся туда, куда им нельзя сплавляться, куда не направляться они не могут, куда они возносятся не по своей воле. Я никого не называю, не обозначаю, не выбираю. Я — горе, обретшее свободу, когда отказалось выбирать, — открываю объятия тростинкам на марше: тебе, с одного края бесконечности шагающему навстречу другому, начавшему свой путь с противоположной стороны, походящем на тебя все больше по мере того, как вы сближаетесь, и ты, не изумляясь, в конце концов сливаешься с ним, как с чем-то от тебя неотъемлемым, как со своей тенью, когда достигает апогея тот свет, которым вы поделитесь друг с другом; тебе, вскричавшему «я иду» скалам, окаймляющим реку, столь же недвижную, как Мертвое море (весла влюбленных лодок зачмокали в вечерней тишине, точно поцелуи людоедских божков), и услышавшему от эха «оцепенев, я догоню тебя», и понимающе улыбнувшемуся в ответ улыбкой заговорщика; тебе, усиленно продирающемуся сквозь толпу ряженых, густую, пеструю, искренне и громогласно смеясь прямо в глазницы свежевыкопанного черепа, который платит тебе безудержным весельем старых, уродливых, наконец-то нашедших клиента проституток; и тебе, тебе, что после некоторых колебаний все-таки стянул из корзинки старой цветочницы замусоленный букетик фиалок (даже не пармских), и его аромат — пока ты стремишься куда-то, и ноги твои окрылены неизвестно кем — судорожно вдыхают самые желанные девушки, постепенно соблазняемые капризными временами года и неожиданно сами для себя разрешающие все свои проблемы при помощи ядовитого раствора фосфора. Я раскрываю вам объятия, готовые вот-вот сомкнуться над этой ничем не смущенной свободой.
Стихи прорастают из перерубленных побегов, используя которые, чудеса седьмого дня — дня отдыха — хотели кощунственно соединиться с праздниками рабов. Мы, тростинки, не сопротивляемся. И именно потому наш взгляд упирается как раз в пограничный ров, что отделяет согласие от отрицания. Именно потому наш взгляд не видит различия между «да» и «нет», именно потому он стеклянный, как закрытый взгляд утопленников, которым не дано изумляться.
Я отрицаю, что я якобы отождествил сон, чудо, ясновидение, предчувствие с чудовищным, то есть с тем, что парадоксально примиряет самые резкие противоположности («да» и «нет») с чем-то таким, что по своим понятиям, представлениям и взглядам совершенно бесполо: мы же не среди орхидей. И если они кажутся нам пугающе чуждыми, то это не из-за их наряда; это результат нашего усеченного зрения. Поэтому и только поэтому чудесное, когда бы наше сознание ни споткнулось о него (происходит это лишь иногда и изредка, ибо, будь оно непрерывным и цельным, оно перестало бы быть чудесным, превратилось бы в норму, а это означало бы, что мы с самого своего начала причастны Целому, то есть блаженны, иначе говоря, недосягаемы для первородного греха, что было бы абсурдно), кажется по крайней мере странным — или даже чудовищно парадоксальным — и внутренне столь противоречивым, что «разум» приходит в ужас, если его не отрицает. Это выглядит так, словно в нем кипят «да» и «нет» столь равноценные, что они незаметно нейтрализуют друг друга. Это «пекло-рай»[28], это нечто вроде ужасающего кармана фокусника, вроде этого комичного, но вызывающего подозрительное беспокойство выворачивания наизнанку внутренностей ярмарочного шарлатана.
Как бы то ни было, каждый, на кого наваливался сон, знаком с интуицией, которая настолько убедительна, что в убедительности не уступает адекватной мысли, то есть мысли правдивой, мысли, автоматически трансформирующейся в акт, мысли-акту — и завеса рвется. Безразлично, какая. Безразлично, между чем и чем: ясно только, что это завеса, то есть разграничительный признак, настолько же условно материальный, насколько безусловно виртуальный и при этом надежно изолирующий. И если удар этого интуитивного познания менее ощутим во сне спящих, который — с физиологической точки зрения — мозговую функцию суждения если не отключает полностью, то по крайней мере ослабляет, то во снах бодрствующих он очень силен. Ибо кто станет отрицать, что мы видим сны, бодрствуя. Не только «мечтатели» и «поэты»; каждый. А сон бодрствующего имеет все признаки сна спящего. Он так же быстр, так же мимолетен, так же сопротивляется нормальной памяти, но при этом так же интенсивен и по сути своей даже более убедителен, чем сон спящего, поскольку вторгается в полностью включенное сознание и проявляется не только сам по себе, но также и в совокупности с видением «сознания», то есть видением «контролируемого мира». К этой соотносимости (или скорее тождественности) сна спящего и сна бодрствующего я вернусь чуть позже. А пока несколько слов о всеобщем характере этого второго зрения во время бодрствования — не отождествлять со «вторым зрением» пророческим! — о характере, со следующим определением которого — о, это определение! — ты, читатель, не можешь не согласиться, если не хочешь беззастенчиво лгать самому себе: все свидетельствует за то, будто нам было послано внезапное озарение, которое позволило бросить короткий взгляд на край, откуда мы были изгнаны — хотя и с разной степенью непреклонности и с разнящимися по степени скупости разрешениями на временные краткие возвращения, — из края, который дополняет мир; взглянуть на Целое, бросить один общий взгляд, вовсе не претендующий на интерпретацию, на Целое, насквозь ясное и отчетливое, «вовсе ничем не изумляющее», то есть на рай. Если допустить, что существуют люди, которые, говоря о сне (грезах, чудесах, предчувствии и т. п.), не могут не говорить одновременно и о четвертом измерении, то лучше бы им, наверное, считать грезы, чудеса, предчувствия непосредственно четвертым измерением, а не только воротами в него. Но мы уже сказали, что евклидова или любая иная геометрия нас не очень-то занимают; они — вообще не наша забота. Потому мы и внушаем читателю, чтобы сну, интерпретированному как четвертое измерение, он не придавал большего значения, чем следует.
Если читатель еще помнит, в начале настоящего памфлета мы объявили о намерении представить поэтику не только данной книги, но и всех наших забытых работ — прошлых и будущих. Мы не отклонились и не отклоняемся от этого намерения.
Мы назвали эту книгу «Сонником»[29]. Заметим для начала, что мы рассматриваем это слово не в его привычном свете. Наш сонник снов не толкует — он их сохраняет; это — гербарий снов. Наверное, он — нечто более высокое или, по крайней мере, хочет таковым быть. Позже мы увидим, удалось ли ему это.