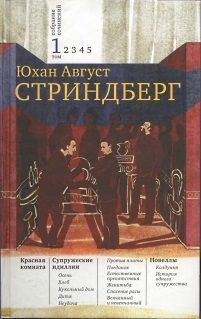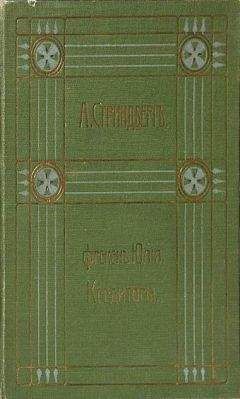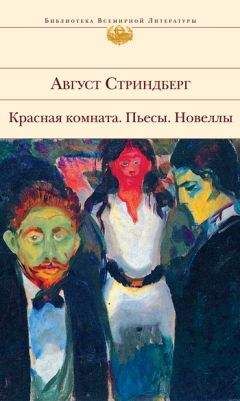Август Стриндберг - Красная комната
Реньельм встал из-за стола, сделал несколько шагов, пошатнулся, упал на колени возле дивана, опустив на него голову, и разрыдался, как ребенок, уткнувший голову в колени матери.
Фаландер сел рядом, сжав его голову ладонями. Реньельм почувствовал на шее что-то горячее, словно ее обожгла искра.
— Где же твоя философия, мой друг? — воскликнул Реньельм. — Давай ее сюда! Я тону! Тону! Соломинку! Соломинку! Скорей!
— Бедный, бедный мальчик!
— Я должен ее увидеть! Должен попросить у нее прощения! Я люблю ее! Все равно люблю! Все равно! Она не ушиблась? Господи, как можно жить на свете и быть таким несчастным, как я!
* * *В три часа дня Реньельм уехал в Стокгольм. Фаландер сам затворил за ним дверь купе и запер ее на крючок.
Глава двадцать вторая
Суровые времена
Селлену осень тоже принесла большие перемены. Его высокий покровитель умер, и все, что было связано с его именем, старались вытравить из памяти людей; даже память о его добрых делах не должна была пережить его. Само собой разумеется, Селлену сразу же прекратили выплачивать стипендию, тем более что он был не из тех, кто ходит и просит о помощи; впрочем, он и сам теперь не считал, что нуждается в чьей-то поддержке, поскольку в свое время получил такую щедрую помощь, а сейчас его окружали художники, которые были гораздо моложе его и испытывали гораздо более острую нужду. Однако вскоре ему пришлось убедиться, что погасло не только солнце, но и все планеты оказались в кромешной тьме. Хотя все лето Селлен без устали работал, оттачивая свое мастерство, префект заявил, что он стал писать хуже и весенний его успех — всего лишь удача и везение. Профессор пейзажной живописи по-дружески намекнул ему, что из него все равно ничего не выйдет, а критик-академик воспользовался удобным случаем, чтобы реабилитировать и подтвердить свою прежнюю оценку картины Селлена. Кроме того, изменились вкусы покупателей картин, этой небольшой кучки богатых и невежественных людей, которые определяли моду на живопись; чтобы продать пейзаж, художнику приходилось изображать этакую пошловатую сельскую идиллию, и все равно найти покупателя было нелегко, потому что наибольшим спросом пользовались слезливые жанровые сценки и полуобнаженная натура. Для Селлена наступили суровые времена, и жилось ему очень тяжело — он не мог заставить себя писать то, что противоречило его чувству прекрасного.
Между тем он снял на далекой Правительственной улице пустующее фотоателье. Жилье его состояло из самого ателье с насквозь прогнившим полом и протекающей крышей, что зимой было не так уж страшно, поскольку ее покрывал снег, и бывшей лаборатории, так пропахшей коллодиумом, что она ни на что больше не годилась, как для хранения угля и дров, когда обстоятельства позволяли их приобрести. Единственной мебелью здесь была садовая скамейка из орешника с торчащими из нее гвоздями и такая короткая, что если ее использовали в качестве кровати — а это случалось всегда, когда ее владелец (временный) ночевал дома, — колени висели в воздухе. Постельными принадлежностями служили половина пледа — другая половина была заложена в ломбарде — и распухшая от эскизов папка. В бывшей лаборатории были водопроводный кран и отверстие для стока воды — туалет.
Однажды в холодный зимний день перед самым рождеством Селлен стоял у мольберта и в третий раз писал на старом холсте новую картину. Он только что поднялся со своей жесткой постели; служанка не пришла затопить камин, во-первых, потому что у него не было служанки, а во-вторых — нечем было топить; по тем же причинам служанка не почистила ему платье и не принесла кофе. И тем не менее он что-то весело и довольно насвистывал, накладывая краски на великолепный огненный закат в горах Госта, когда послышались четыре двойных удара в дверь. Без малейшего колебания Селлен открыл дверь, и в комнату вошел Олле Монтанус, одетый чрезвычайно просто и легко, без пальто.
— Доброе утро, Олле! Как поживаешь? Как спал?
— Спасибо, хорошо.
— Как обстоят в городе дела со звонкой монетой?
— О, очень плохо.
— А с кредитками?
— Их почти не осталось в обращении.
— Значит, их больше не хотят выпускать. Так, ну а как с валютой?
— Совсем пропала.
— По-твоему, зима будет суровая?
— Сегодня утром возле Бельсты я видел очень много свиристелей, а это к холодной зиме.
— Ты совершал утреннюю прогулку?
— Я ушел из Красной комнаты в двенадцать часов и пробродил всю ночь по городу.
— Значит, ты был там вчера вечером?
— Да, был и завел два новых знакомства: с доктором Боргом и нотариусом Левином.
— А, эти проходимцы! Знаю я их! А почему ты не напросился к ним переночевать?
— Понимаешь, они смотрели на меня несколько свысока, потому что у меня не было пальто, я и постеснялся. Я так устал; можно мне прилечь, ладно? Сначала я дошел до Катринберга возле Кунгсхольмской таможни, потом вернулся в город, миновал Северную таможню и добрался до самой Бельсты. А сегодня, наверно, пойду наниматься к скульптору-орнаментщику, а то ведь умру с голоду.
— Это правда, что ты вступил в рабочий союз «Северная звезда»?
— Правда. В воскресенье делаю там доклад о Швеции.
— Прекрасная тема! Великолепная!
— Если я засну здесь у тебя, не буди меня; я так устал!
— Пожалуйста, не стесняйся! Спи!
Через несколько минут Олле спал глубоким сном и громко храпел. Голова его перевешивалась через подлокотник, который подпирал его толстую шею, а ноги перевешивались через другой подлокотник.
— Бедняга, — сказал Селлен, накрывая его пледом.
Снова послышался стук в дверь, но он не был условным сигналом, и Селлен не торопился открывать; однако стук возобновился с такой неистовой силой, что уже можно было не опасаться каких-нибудь серьезных неприятностей, и Селлен отворил дверь: это были доктор Борг и нотариус Левин. Борг сразу же повел себя как хозяин:
— Фальк здесь?
— Нет!
— А что это за мешок с дровами валяется? — продолжал он, показывая сапогом на Олле.
— Олле Монтанус.
— А, это тот самый чудак, что был с Фальком вчера вечером. Он еще спит?
— Да, спит.
— Он ночевал здесь?
— Ночевал.
— Почему ты не затопишь? У тебя дьявольски холодно!
— Потому что у меня нет дров.
— Вели принести! Где уборщица? Давай ее сюда! Я ее слегка встряхну!
— Уборщица пошла исповедоваться.
— Так разбуди этого вола, что разлегся здесь и сопит! Я пошлю его за дровами.
— Нет, дай ему поспать, — сказал Селлен, поправляя плед на Олле, который все это время храпел не переставая.
— Ладно, я научу тебя кое-чему. У тебя под полом земля или строительный мусор?
— Я в этом ничего не понимаю, — ответил Селлен, осторожно усаживаясь на один из кусков картона, разложенных на полу.
— Есть у тебя еще картон?
— Есть, а зачем тебе? — спросил Селлен, и лицо его покрылось легким румянцем.
— Мне нужны картон и кочерга!
Борг получил то, что требовал, а Селлен, так и не поняв, зачем это ему нужно, расположился на кусках картона и сидел, словно под ним был драгоценный клад.
Борг сбросил пиджак и кочергой стал выламывать половицу, насквозь прогнившую от кислот и дождя.
— Ты что, с ума сошел? — закричал Селлен.
— Я всегда так делал в Упсале, — объяснил Борг.
— Но так не делают в Стокгольме!
— А мне какое дело до Стокгольма? Здесь холодно, и сейчас мы затопим печку!
— Но не ломай пол! Ведь это сразу заметят!
— Поверь, мне совершенно все равно, заметят или не заметят; ведь не я здесь живу; какая она твердая, эта чертова деревяшка!
Приблизившись к Селлену, он слегка толкнул его, и тот растянулся на полу; падая, он сдвинул куски картона, и под ним стали видны прогнившие доски.
— Ах ты плут! У него здесь целый дровяной склад, а он сидит и помалкивает.
— Это потолок протекает, вот все и прогнило.
— Меня не интересует, почему прогнило; главное, у нас будет огонь.
Ловко орудуя кочергой, Борг отломал несколько досок, и скоро в камине действительно пылал огонь.
Во время этой сцены Левин держался спокойно, выжидательно и почтительно. Между тем Борг уселся перед камином и стал накаливать кочергу.
В дверь снова постучали, но на этот раз последовали три коротких и один длинный удар.
— Это Фальк, — заметил Селлен и пошел открывать. Когда Фальк переступил порог, вид у него был довольно возбужденный.
— Тебе нужны деньги? — спросил его Борг, хлопнув себя по нагрудному карману.
— И ты еще спрашиваешь! — ответил Фальк неуверенно.
— Сколько тебе нужно? Я могу достать!
— Ты это серьезно? — спросил Фальк, и лицо его просветлело.
— Серьезно! Гм! Wie viel?[19] Сумма! Цифра! Называй!
— О, шестидесяти риксдалеров было бы достаточно.